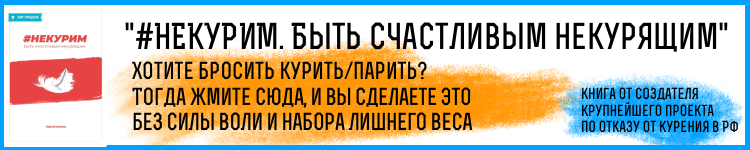Материалы сайта
Это интересно
Цвет и звук в лирике А. Блока
Содержание
Введение 3
ГЛАВА I. Цветовая гамма поэтических образов А. Блока 7
ГЛАВА II. Звуковой колорит лирики А. Блока 34
Заключение. 60
Использованная литература. 65
Введение
Творчество Александра Блока — одно из наиболее значительных явлений
русской поэзии. Его стихи продолжают лучшие традиции поэзии XIX века —
философская глубина содержания, лиризм и гражданственность, предельная
отточенность формы содержат немало новаторских черт. Благодаря этому его
творчество является практически неисчерпаемым для литературоведческих и
лингвистических исследований.
Хочется привести великолепные слова о восприятии Анной Ахматовой
поэтической личности Блока, Ахматова писала в своих заметках: "Блока я
считаю не только величайшим поэтом первой четверти Двадцатого века
(первоначально стояло: "одним из величайших"), но и человеком-эпохой, т.е.
самым характерным представителем своего времени..."[1]
В статье "Блок", написанной вскоре после смерти поэта, Ю. Тынянов
писал: "Блок — самая большая лирическая тема Блока.(...) Об этом лирическом
герое и говорят сейчас. Он был необходим, его окружает легенда, и не только
теперь - она окружала его с самого начала, казалось даже, что она
предшествовала самой поэзии Блока...".
При пристальном изучении творчества А. Блока приходится соприкоснуться
с таинственной литературной средой – средой символистов, особенности
которой отразились в его творчестве. Образная система в его произведениях
очень сложна, через все этапы творчества проходит ряд сквозных образов,
однако они не статичны, в каждом новом произведении они приобретают новое
качество, а нередко и новый, смысл, который, однако, нельзя постигнуть, не
обратившись к его истокам в прежних произведениях. Необходимо учитывать
блоковскую природу образа.
Исследование творчества Александра Александровича Блока представляет
собой достаточно трудную задачу. Его творчество настолько многообразно,
разносторонне, всеобъемлющее, что, на первый взгляд, очень трудно решить с
какой позиции его следует рассматривать, несмотря на работы таких
выдающихся ученых-блоковедов как З. Г. Минц, И.Т. Крука, Р.З. Миллер-
Будницкой, и многих других.
Действительно, поэзии Блока посвящено немало научных работ как
биографического, так и исследовательского характера; достаточно полно
изучены его поэтика, творческая эволюция. Вместе с тем тонкость душевных
струн Блока, его мироощущение через призму чувств и душевных терзаний
освещены все еще недостаточно. Связано это с односторонним подходом
большинства исследователей: при глубочайшем изучении гражданских и
биографических мотивов практически без внимания оставались философские,
нравственные, религиозно-мифологические взгляды поэта, его психика и
психологическая сторона его творчества. Причина состоит в существовавшем
долгое время негласном запрете на религию и идеалистические философские
учения, составляющие основу мировоззрения Блока, невторжение в личностный
мир поэта.
В настоящее время определились две новые тенденции в науке:
1. Переоценка существовавших в советское время суждений о литературных
произведениях.
2. Установление культурологических связей художественных произведений
с мифологией, философией, религией, произведениями других авторов, причем
сопоставления делаются подчас совершенно неожиданные.
И также возникло новое понятие – «синестезия».
Перед нами стояла достаточно сложная задача в определении цели и
предмета исследования. И ключевым, наверное, моментом, послужили слова В.
Орлова: «в «Снежной маске» в наиболее обнаженной форме закреплены
типические черты тогдашней художественной манеры Блока – метафорический
стиль, завораживающая музыкальность стиха». И таким образом родилась цель
данной работы: рассмотреть, как в лирике Блока отображены цветовые и
звуковые образы, какими средствами достигал Блок звучности и красочности в
своих стихах. Работа не претендует на абсолютную полноту охвата материала и
глобальность исследования, на неопровержимость выводов. При анализе
поэтических произведений вообще трудно добиться объективности вследствие
предельной субъективности лирики как рода литературы. В нашем же случае
речь пойдет о символической поэзии, то есть предельно зашифрованной, где за
каждым образом стоит идея, и указание на нее, казавшееся предельно ясным
автору и понятным современникам, затемнено, не выводится из суммы
биографических, исторических и культурологических данных.
Проследить применение звуковой и цветовой гамм в языке Блока и
проанализировать функционирование используемых для этого языковых средств в
стихах – одна из основных задач исследования.
Основным направлением работы является непосредственный анализ
художественных произведений Блока, как их содержательной, так и формальной
стороны.
При анализе лексико-фразеологических средств, используемых поэтом для
художественного воплощения своих взглядов, предпочтение отдается формальной
стороне вопроса.
Конечным итогом работы должно стать целостное описание языковых
средств, используемых А. Блоком для выражения своего мироощущения и
мировосприятия.
Работа состоит из двух глав. В первой главе рассматривается роль цвета
и применение цветовых образов писателем. Глава вторая посвящена анализу
музыкальности в лирике А. Блока.
Материал дипломной работы и ее задачи определяют применение
традиционных методов лингвостилистического анализа: метод лингвистического
описания, включающий в себя наблюдение, интерпретацию, и классификацию
языкового материала; структурно – семантический метод, который предполагает
выявление комбинаторных приращений смысла в тексте.
Практическая значимость работы заключается в том, что материал
исследования может быть использован на уроках «Русской словесности» в
старших классах.
ГЛАВА I. Цветовая гамма поэтических образов А. Блока
Стихотворения А. Блока как бы раскрашены в различные цвета и оттенки.
Колоризм в поэзии Блока обусловлен, с одной стороны, реальным миром и, с
другой — миром символов.
Интересно проследить и понять причины использования поэтом в метафоре
или символе того или иного цвета, в частности красного, символика которого
в поэзии Блока наиболее богата. Красный цвет выполняет самые различные
функции, например, является смысловым стержнем субстантивированной
аллегории: «Ночью красное поет...» (V, 71); «Красный с козел спрыгнул — и
на светлой черте распахнул каретную дверцу», (II, 157).
Есть у Блока стихотворения, где красный цвет пронизывает весь сюжет,
организует его («Распушилась, раскачнулась...», «Я бежал и спотыкался...»,
«Пожар», «Обман», «В сыром ночном тумане...», «Светлый сон, ты не
обманешь...», «Невидимка», «Город в красные пределы...» и др.)
Стихотворение «Город в красные пределы...» (1904) посвящено ближайшему
другу Блока Е. П. Иванову. В близком поэту кругу людей красный цвет
воспринимался как символ тревоги, беспокойства. Блок рассчитывал именно на
такое понимание своего стихотворения, стремясь передать в нем безумие и
обреченность капиталистического города:
Город в красные пределы
Мертвый лик свой обратил,
Серо-каменное тело
Кровью солнца окатил.
Стены фабрик, стекла окон,
Грязно-рыжее пальто,
Развевающийся локон —
Все закатом залито.
Блещут искристые гривы
Золотых, как жар, коней,
Мчатся бешеные дива
Жадных облачных грудей.
Красный дворник плещет ведра
С пьяно-алою водой,
Пляшут огненные бедра
Проститутки площадной,
И на башне колокольной
В гулкий пляс и медный зык
Кажет колокол раздольный
Окровавленный язык.
Красный цвет у зрелого Блока почти всегда трагический, больной,
горячечный. Можно предположить, что трагическое восприятие красного цвета
появляется у Блока после прочтения рассказа Леонида Андреева «Красный смех»
(1904), в этом же году поэт пишет стихотворение «Город в красные
пределы...». Образы этого стихотворения использованы им и в статье
«Безвременье» (1906), первая часть которой посвящена Леониду Андрееву. Блок
считает, что «нота безумия, непосредственно вытекающая из пошлости, из
паучьего затишья», впервые зазвучала у Андреева в рассказе «Ангелочек»
(1899; ср. у Блока «Сусальный ангел»).
Развивая мысль о том, что в городе царит «пошлость-паучиха», Блок
рисует картину безумного города, безумного мира, каким он, по его мнению,
обрисован и у Андреева; это среди безлюдья «пьяное веселье, хохот, красные
юбки; сквозь непроглядную ночную вьюгу женщины в красном пронесли шумную
радость, не знавшую, где найти приют. Но больная, увечная их радость скалит
зубы и машет красным тряпьем; улыбаются румяные лица с подмалеванными
опрокинутыми глазами, в которых отразился пьяный приплясывающий мертвец-
город...
Наша действительность проходит в красном свете. Дни все громче от
криков, от машущих красных флагов; вечером город, задремавший на минуту,
окровавлен зарей. Ночью красное поет на платьях, на щеках, на губах
продажных женщин рынка», (V, 71).
Блок был потрясен андреевским «Красным смехом», ведь и он тоже
чувствовал безумие страшного мира, его антигуманное начало. В январе 1905г.
в письме к Сергею Соловьеву Блок писал: «Читая «Красный смех» Андреева,
захотел пойти к нему и спросить, когда всех нас перережут. Близился к
сумасшествию...» (VIII, 177).
В. И. Беззубов, автор работы «Александр Блок и Леонид Андреев»
считает, что можно с некоторой долей вероятности предположить, что в
стихотворении «Сытые» поэт использует андреевский образ:
Теперь им выпал скудный жребий:
Их дом стоит неосвещен,
И жгут им слух мольбы о хлебе
И красный смех чужих знамен!
II, 180
По всей вероятности андреевским рассказом навеян и синэстетический
образ в стихотворении «Прискакала дикой степью...»:
Рукавом в окно мне машет,
Красным криком зажжена,
Так и манит, так и пляшет,
И ласкает скакуна.
II, 86
В этом стихотворении все как бы озарено отблеском полуночного костра:
«Любишь даль дивить красой стана, стянутого туго красной ленты полосой» (в
первоначальном варианте).
В рамках одного стихотворения красный может выступать в разных
функциях. Характерно в этом отношении стихотворение «Распушилась,
раскачнулась...». Здесь красный — в роли постоянного метафорического
эпитета: «Божья матерь улыбнулась с красного угла», в роли метонимии в
такой сложной оксюморонной картине:
Раскрутился над рекою
Красный сарафан,
Счастьем, удалью, тоскою
Задышал туман.
III, 370
Тут же — изобразительный эпитет алый, подготовленный неназванным, но
явно подразумеваемым красным цветом платка (вслед за красным сарафаном):
И под ветром заметались
Кончики платка,
И прохожим примечтались
Алых два цветка.
III, 370
Красный цвет и его эквиваленты могут символизировать действия, быть
условием начала действия. Угасание цвета становится залогом рождения и
развития поэтического образа, поэтического сюжета:
Покраснели и гаснут ступени.
Ты сказала сама: «Приду».
I, 253
В эволюции символики красного цвета у Блока наблюдается явление,
обратное тому, которое характерно для блоковской поэтики и ее символики в
целом. Если наиболее сложной и зашифрованной она была в первом томе,
становясь с каждым годом все более прозрачной, то с красным цветом все было
как раз наоборот. В первом томе, до цикла «Стихов о Прекрасной Даме»,
красный цвет вполне реален и конкретен: «На гладях бесконечных вод, закатом
в пурпур облеченных...» (I, 19); «Путь блестел росы вечерней красным
светом» (I, 20); «Последний пурпур догорал» (I, 54). И только во вступлении
к циклу появляется «красная тайна»:
Терем высок, и заря замерла.
Красная тайна у входа легла.
I, 74
Поэт Владимир Пяст, друг Блока, в своих заметках о первом томе
сочинений Блока утверждает, что здесь преобладают тона голубые и золотистые
— цвета Прекрасной Дамы, а во всем, что написано позже, преобладают другие,
грязные тона. В качестве примера Пяст приводит стихи из стихотворения «К
Музе»: «Тот неяркий, пурпурово-серый и когда-то мной виденный круг».
С этим мнением нельзя согласиться. В цикле «Стихов о Прекрасной Даме»
то и дело встречаем: «росы вечерней красным светом», «ты в алом сумраке,
ликуя...» (алый сумрак встречается несколько раз), красный отблеск, красный
месяц, красное зарево, красные зори, кровавые цветы, багровые костры,
красные ленты, красная пыль, красные лампады, красные маки, красная весть,
красный зов зари и т. д.
Весь первый том, как бы озарен красным светом, им же озарено и
стихотворение «Предчувствую Тебя...», которым так восхищается В. Пяст («Оно
эмфатично, оно больше во всех смыслах того, что обычно есть самое
прекрасное стихотворение, оно — пришло»). Но Пяст не замечает этой
озаренности: «Весь горизонт в огне и ясен нестерпимо» (повторяется три
раза). А пурпурово-серый — это не грязный, а все тот же красный,
трагический цвет, это костер и тлеющие до поры угли под пеплом: «Пеплом
подернутый бурный костер...» (III, 54). Этот же оттенок и в стихотворении
«Сквозь серый дым...»:
О чем в сей мгле безумной, красно-серой,
Колокола — О чем гласят с несбыточною верой?..
III, 201
Пурпурный круг над головою Музы нам еще встретится у Блока («Кто ты,
Женственное Имя в нимбе красного огня?» (II, 48); в одном из программных
стихотворений цикла «Стихов о Прекрасной Даме» — «мерцание красных лампад»,
при свете которых и совершает свой обряд инок:
Вхожу я в темные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцании красных лампад.
I, 232
Порой красный цвет может быть и не назван прямо, но он пронизывает
стихотворение:
Я умер.
Я пал от раны.
И друзья накрыли щитом.
Может быть, пройдут караваны.
И вожатый растопчет конем.
Так лежу три дня без движенья.
И взываю к песку: «Задуши!..»
Но тело хранит от истленья
Красноватый уголь души.
На четвертый день я восстану,
Подыму раскаленный щит,
Растравлю песком свою рану
И приду к Отшельнице в скит.
Из груди, сожженной песками,
Из плаща, в пыли и крови,
Негодуя, вырвется пламя
Безначальной, живой любви.
I,365—366
В первом томе красный цвет часто выступает в соседстве с другими —
голубым, белым, желтым:
«Белой ночью месяц красный выплывает в синеве» (I, 90); «Свобода
смотрит в синеву. Окно открыто. Воздух резок. За жолто-красную листву
уходит месяца отрезок» (I, 228). Постепенно красный цвет и его оттенки
вместе с другими цветами начинает передавать определенное настроение,
душевное состояние, чаще всего тревожное («Зарево белое, желтое, красное,
крики и звон вдалеке, ты не обманешь, тревога напрасная, вижу огни на реке»
(I, 136); «Души кипящий гнев смири, как я проклятую отвагу. Остался красный
зов зари и верность голубому стягу» (I, 289); смятение, боль и надрыв («Я
был весь в пестрых лоскутьях, белый, красный, в безобразной маске. Хохотал
и кривлялся на распутьях, и рассказывал шуточные сказки» (I, 277).
В первом томе уже намечается метафоризация красного цвета, причем
метафоры, основу которых составляет красный цвет, часто тут же
расшифровываются («Мигает красный призрак — заря!» (I, 259) или
раскрываются предшествующими стихами, всем содержанием стихотворения:
...Задыхались в дыму пожара,
Испуская пронзительный крик.
...На обломках рухнувших здании
Извивался красный червяк.
I, 264
Красный цвет уже в первом томе используется для создания символов,
которые передают мятежные, характерные для Блока порывы, беспокойство и
душевное смятение:
Я безумец!
Мне в сердце вонзили
Красноватый уголь пророка!
I, 318
Особенно тревожно звучит стихотворение «Я бежал...», посвященное
Андрею Белому, с которым у Блока всю жизнь были очень сложные отношения.
Стихотворение насыщено красно-кровавыми тонами: обливался кровью, впереди
покраснела заря, истекающий кровью, красный платок полей, красное золото:
Неужели и ты отступаешь?
Неужели я стал одинок?
Или ты, испытуя, мигаешь,
Будто в поле кровавый платок?
О, я увидел его, несчастный,
Увидел красный платок полой...
Заря ли кинула клич свой красный?.. I, 293
Во втором и третьем томах символика красного цвета расширяется:
красный цвет — элемент контраста, символ разоблачения капиталистического
города и его противоречий, средство сатиры и, наконец, символ
приближающейся революции.
Красный цвет по-прежнему используется в пейзажных зарисовках, однако
уже с явно переносным, метафорическим звучанием: «Пели гимн багряным зорям»
(II, 55); «И в безбурности зорь красноватых не видать чертенят бесноватых»
(II, 14); «Красное солнце село за строенье» (II, 146).
Иногда пейзажные стихи, окрашенные в красные тона, явственно
напоминают есенинские:
Снова красные копья заката
Протянули ко мне острие.
II, 7
На закате полоской алой
Покатилась к земле слеза. II, 80
Но густых рябин в проезжих селах
Красный цвет зареет издали.
II, 75
Огнекрасные отсветы ярче
На суровом моем полотне... III, 222
Красный цвет, как уже говорилось, используется поэтом и для цветового
контраста: «О, красный парус в зеленой дали!» (III, 102); «Синее море!
Красные зори!» (II, 52); «Давно потухший взгляд безучастный, клубок из
нитей веселый, красный...» (II, 64).
Интересен пример гиперболизации красного цвета, его нагнетания:
Трижды красные герольды
На кровавый звали пир!
Встречается и перефразировка красного цвета («И пьяницы с глазами
кроликов...» (II, 185), красный в географическом названии («Через Красное
море туман поползет...» (I, 485), и красный как постоянный фольклорный
эпитет («Что в очах Твоих, красная девица, нашептала мне синяя ночь»
(I,523).
Социальное звучание произведений Блока становится все более отчетливым
во втором томе. Блок все пристальнее всматривается в окружающую его
действительность, все ближе воспринимает жизнь. Предгрозовые раскаты и сама
революционная гроза 1905 года не пронеслись мимо него. Тема страшного мира
и неприятия его, вера в неизбежность гибели капиталистического уклада,
своеобразно осмысленная и интерпретированная, все чаще появляется в поэзии
Блока. Красный цвет становится на время символом мещанства, пошлости,
продажности: «Но ты гуляешь с красным бантом и семячки лущишь...» (II,
116); в притоне разврата «всех ужасней в комнате был красный комод» (II,
139); «Красный штоф полинялых диванов...» (III, 31); «Был любовный напиток
— в красной пачке кредиток» (II, 168). Поэту ненавистны мещанские красные
герани в окошках:
О, если б не было в окнах
Светов мерцающих!
Штор и пунцовых цветочков! II, 162
В письме к Сергею Соловьеву от 8 марта 1904 г. Блок писал: «Пишу стихи
длинные, часто совершенно неприличные, которые, однако, нравятся мне больше
прежних и кажутся сильнее. Не ругай за неприличие, сквозь него во мне все
то же, что в прежнем «расплывчатом», но в формах крика, безумий и часто
мучительных диссонансов» (VIII, 97).
Трагедия человека в капиталистическом городе, среди дыма заводских
труб, передана с помощью оттенков красного в стихотворении «Обман» (II,
146—147, 5 марта 1904 г.): «пьяный красный карлик... прыгнул в лужицу
красным комочком... Красное солнце село за строенье... По улицам ставят
красные рогатки... Стремительно обгоняет их красный колпак... В глазах ее
красно-голубые пятна...»
С темой разоблачения капиталистического города, символом которого
становится красный фонарь, связана в поэзии Блока тема падшей женщины —
жертвы людского равнодушия, пресытившегося мира («Улица, улица...»,
«Повесть», «Легенда», «Невидимка», «Там дамы щеголяют модами», «Клеопатра»,
«Ночная фиалка», «Мария», «Вот — в изнурительной работе...», «Последний
день» и т. д.). Во многих стихотворениях Блок ставит рядом поэта и
«падшую», утверждая их внутреннюю близость: духовную незащищенность,
ранимость. В падшей Блок видит близкую, обиженную подругу, человека:
Там, где скучаю так мучительно,
Ко мне приходит иногда
Она — бесстыдно упоительна
И унизительно горда.
II, 187
Лирический герой называет падшую своей «красной подругой», «вольной
девой в огненном плаще». Тема падшей как жертвы ненавистного страшного мира
раскрывается с помощью красного цвета:
И — нежданно резко — раздались проклятья,
Будто рассекая полосу дождя:
С головой открытой — кто-то в красном платье
Поднимал на воздух малое дитя...
Светлый и упорный, луч упал бессменный—
И мгновенно женщина, ночных веселий дочь,
Бешено ударилась головой о стену,
С криком исступленья, уронив ребенка в ночь...
И столпились серые виденья мокрой скуки.
Кто-то громко ахал, качая головой.
А она лежала на спине, раскинув руки,
В грязно-красном платье, на кровавой мостовой. II, 163
Цветовые образы, в основном с участием красного, играют существенную
роль в трагическом решении темы города («Невидимка»):
Веселье в ночном кабаке.
Над городом синяя дымка.
Под красной зарей вдалеке
Гуляет в полях Невидимка.
...Вам сладко вздыхать о любви,
Слепые, продажные твари?
Кто небо запачкал в крови?
Кто вывесил красный фонарик?
...Вечерняя надпись пьяна
Над дверью, отворенной в лавку...
Вмешалась в безумную давку
С расплеснутой чашей вина
На Звере Багряном — Жена.
II, 170—171
Гораздо реже используется красный цвет в портретных зарисовках. Это
портрет человека — жертвы проклятого города:
Лазурью бледной месяц плыл
Изогнутым перстом.
У всех, к кому я приходил,
Был алый рот крестом.
...Им смутно помнились шаги,
Падений тайный страх,
И плыли красные круги
В измученных глазах.
II, 181
Кульминацией символики красного цвета в поэтике Блока является
использование его для передачи революционных предчувствий и настроений:
... росли восстаний знаки,
Красной вестью вечного огня
Разгорались дерзостные маки,
Побеждало солнце Дня. I, 513
Рабочий в «сером армяке» берет в свои руки руль «барки жизни»: «Тихо
повернулась красная корма...» (II, 161). «Отдаленного восстанья
надвигающийся гул» (II, 202) — и «Над вспененными конями факел стелет
красный свет» (II, 201); «От дней войны, от дней свободы — кровавый отсвет
в лицах есть» (III, 278). Красный как символ свободы, наводящий ужас на
тех, кто стоит на страже существующего порядка, звучит в стихах:
...Дразнить в гимназии подруг
И косоплеткой ярко-красной
Вводить начальницу в испуг... III, 316
И, конечно, красный — это цвет боевых знамен революции, победно
развевающихся над идущими «державным шагом» двенадцатью красногвардейцами,
бессменным дозором революции:
В очи бьется Красный флаг.
Раздается Мерный шаг. III, 356—358
И если во втором томе «взвился огневой, багряницей засыпающий
праздничный флаг» (II, 274, 1907), то в поэме «Двенадцать» он гордо реет на
ветру: «Это— ветер с красным флагом разыгрался впереди...».
Во втором томе Блок не раз обращался к этому образу, но это был всего
лишь намек на необычность, таинственность ситуации:
«Птица Пен» ходила к югу,
Возвратясь давала знак:
Через бурю, через вьюгу
Различали красный флаг... II, 50
Эволюция символики красного цвета у Александра Блока позволяет
проследить, как поэт углублял и расширял систему поэтических образов. Среди
них образы, в создании которых использован красный цвет и его оттенки,
играют решающую роль для понимания творчества Блока, эволюции его
мировоззрения.
По статистике Миллер-Будницкой, сине-голубой цвет составляет в
колористической гамме Блока 11%. Синий, как и красный, играет важную роль в
поэтике Блока. Основная функция его — романтическая. Блок остался навсегда
романтиком, и его «голубой цветок» не увял, оборачиваясь то голубым
кораблем, то голубым сном, то голубой мечтой или синим туманом. Цитируя Г.
Гейне, Блок мог то же сказать и о себе: «Несмотря на мои опустошительные
походы против романтиков, сам я все-таки всегда оставался романтиком и был
им даже в большей степени, чем сам подозревал. После самых смертоносных
ударов, нанесенных мною увлечению романтической поэзией в Германии, меня
самого вновь охватила безграничная тоска по голубому цветку» (VI, 147).
Сам Блок нередко иронизировал по поводу «голубого цветка» и в
«Балаганчике», и в «Незнакомке», и в «Короле на площади», и в своих
автопародиях и шуточных стихах («Посеял я двенадцать маков на склоне
голубой мечты» (I, 552); «Где же дальше Совнархоза голубой искать цветок?»
(III, 426). Но «цветок» выстоял и остался в поэзии Блока символом чистоты,
свежести, радости и надежды на будущее: «И любой колени склонит пред
тобой... И любой цветок уронит голубой...» (II, 241); «И ветер поет и
пророчит мне в будущем — сон голубой...» (II, 275).
В использовании синего, голубого как поэтического образа преобладает
символическое начало. Часто он передает ощущение зыбкости, нереальности,
атмосферу сна: «И на сон навеваю мечты, и проходят они, голубые...» (I,
417); «Подними над далью синей жезл померкшего царя!» (II, 218). Ту же
функцию выполняет и эпитет с суффиксами -еват-, -оват-: «И ушла в синеватую
даль...» (II, 16);
«Голубоватым дымом вечерний зной возносится...» (III, 109); «Неживой,
голубоватый ночи свет» (III, 174);
«Сквозь тонкий пар сомнения смотрю в голубоватый сон» (I, 537).
Голубой используется также для романтико-символистской стилизации в
духе нарочитой утонченности и изысканности, например, в стихотворении «День
поблек, изящный и невинный»:
Тихо дрогнула портьера.
Принимала комната шаги
Голубого кавалера
И слуги. II, 158
Или: «В эту ночь голубую русалки в пруде заливались серебряным смехом»
(I, 417). Изысканность порой доходит до той грани, когда еще чуть-чуть — и
она может обернуться пародией, насмешкой, чуть ли не гротеском, но этого
все же не происходит:
«Нежный! У ласковой речки ты — голубой пастушок» (II, 45); «...Синий
призрак умершей любовницы над кадилом мечтаний сквозит» (III, 186).
Постепенно в образе все отчетливее начинает проступать реалистическое
начало, особенно в картинах пейзажа, исполненных величия и одновременно
ощущения радости жизни:
Перед Тобой синеют без границы
Моря, поля, и горы, и леса,
Перекликаются в свободной выси птицы,
Встает туман, алеют небеса.
I, 107
Синий участвует в создании пейзажа всех времен года, это не только
«вешний» цвет. В этой многозначности, используемой для передачи разных
ощущений, связанных с пейзажем, заключена одна из особенностей творческого
метода Блока. Синий может способствовать, например, передаче настроений
смутных и радостных, предчувствий перемен и каких-то свершений, пусть даже
обманчивых:
Я с мятежными думами
Да с душою хмельной
Полон вешними шумами,
Залит синей водой.
II, 330
«Есть чудеса за далью синей — они взыграют в день весны» (I, 492); «Но
синей и синее полночь мерцала, тая, млея, сгорая полношумной весной...»
(II, 167).
Самое заветное для поэта — тема Родины и ее будущего — связано, как
правило, с поэтическим образом синей дали времен: «Это — Россия летит
неведомо куда — в сине-голубую пропасть времен — на разубранной своей и
разукрашенной тройке. Видите ли вы ее звездные очи — с мольбою, обращенною
к нам: «Полюби меня, полюби красоту мою!» Но нас от нее отделяет эта
бесконечная даль времен, эта синяя морозная мгла, эта снежная звездная
сеть».
И уже на грани своих дней поэт вновь обращается к этому образу как
символу счастья в будущем:
Пропуская дней гнетущих
Кратковременный обман,
Прозревали дней грядущих
Сине-розовый туман.
III, 377
Синева как символ «родимой стороны» типична для стихотворений Блока:
Видишь день беззакатный и жгучий
И любимый, родимый свой край,
Синий, синий, певучий, певучий,
Неподвижно-блаженный, как рай.
III, 236
Но синий может быть и спутником печали, тревоги, томительных,
болезненных ощущений:
Берегись, пойдем-ка домой...
Смотри: уж туман ползет:
Корабль стал совсем голубой... II, 71
В голубом морозном своде
Так приплюснут диск больной,
Заплевавший все в природе
Нестерпимой желтизной.
III, 48
Синий часто встречается в сочетании с другими цветами, служа нередко в
цветовой гамме то фоном, то контрастом, то равноправным компонентом; в этих
случаях синий, как правило, сохраняет свое реальное значение, но иногда он,
чаще всего вместе с красным, выражает смысл метафорически: «Синее море!
Красные зори!», II, 52; «...туча в предсмертном гневе мечет из очей то
красные, то синие огни», II, 303; «Остался красный зов зари и верность
голубому стягу», I, 289; «И месяц холодный стоит, не сгорая, зеленым серпом
в синеве», II, 23;
Из ничего фонтаном синим
Вдруг брызнул свет.
...Зеленый, желтый, синий, красный —
Вся ночь в лучах...
III, 287
Главенствующее значение синего в цветовой гамме может быть подчеркнуто
грамматически необычным множественным числом: «Над зелеными рвами текла,
розовея, весна. Непомерность ждала в синевах отдаленной черты», II, 61.
Синий может участвовать в поэтической передаче психологических
контрастов, символизируя устремленность к добру, к свету: «Забыл я зимние
теснины и вижу голубую даль», I, 182; «Голубому сну еще рад наяву», I, 308;
Здесь — все года, все боли, все тревоги,
Как птицы черные в полях.
Там нет предела голубой дороге...
I, 484
Контрастны и стилевые крайности в использовании синего и голубого
цвета — от высокой поэтизации, романтической окрыленности до выражения
боли, надрыва; иногда этот образ выполняет сатирическую функцию: «И над
твоим собольим мехом гуляет ветер голубой», II, 211; «Надутый, глупый и
румяный паяц в одежде голубой», I, 367:
Я сам, позорный и продажный,
С кругами синими у глаз...
II, 207
«Синий крест»— так озаглавлено юношеское сатирическое стихотворение.
Синий как признак внешнего облика героя (цвет одежды) всегда условен,
здесь он — главное средство поэтизации образа: «Я крепко сплю, мне снится
плащ твой синий, в котором ты в сырую ночь ушла...» III, 64; «У дверей
Несравненной Дамы я рыдал в плаще голубом», I, 263; «Как бесконечны были
складки твоей одежды голубой», I, 490; «Надо мною ты в синем своем
покрывале, с исцеляющим жалом — змея...» II, 260;
И означился в небе растворенном
Проходящий шагом ускоренным
В голубом, голубом,
Закрыто лицо щитом.
II, 317
Законченным воплощением символа является один из персонажей пьесы
«Незнакомка» по имени Голубой, который на вопрос Незнакомки «Ты можешь
сказать мне земные слова? Отчего ты весь в голубом?» отвечает: «Я слишком
долго в небо смотрел: оттого — голубые глаза и плащ», IV, 85.
Один из частых в поэзии Блока символических образов — синие глаза:
«Сотни глаз, больших и глубоких, синих, темных, светлых. Узких...
Открытых...» IV, 76; «Синеокая, бог тебя создал такой», III, 183.
О синих глазах Блок пишет чаще всего метафорически: синий плен,
глубокая синева, жгуче-синий простор, синяя гроза, бездонные,— смысл этих
метафор раскрывается в контексте, словесно-образным окружением:
Смотрели темные глаза,
Дышала синяя гроза.
II, 269
Взор во взор — и жгуче-синий
Обозначился простор.
III, 11
Синие глаза как символ чистоты и высокой романтики подчеркивает Блок в
облике Веры Комиссаржевской. Синий цвет как средство образной
характеристики Блок использует неоднократно, когда хочет передать
романтическое восприятие замечательного искусства Комиссаржевской,
особенность ее великого таланта, устремленного к «новому, чудесному,
несбыточному»: «...эта маленькая фигура со страстью ожидания и надежды в
.синих глазах, с весенней дрожью в голосе, вся изображающая один порыв,
одно устремление куда-то, за какие-то синие-синие пределы человеческой
здешней жизни», V, 415;
«...Вера Федоровна — опытная и зрелая актриса; но она ведь — синее
пламя, всегда крылатая, всегда летящая, как птица», V, 472; «Смерть Веры
Федоровны волнует и тревожит... Это еще новый завет для нас — чтобы мы
твердо стояли на страже, новое напоминание, далекий голос синей Вечности о
том, чтобы ждали нового, чудесного, несбыточного...» V, 416.
Синий у Блока — это и символ вечности, и спутник смерти: «Белые
священники с улыбкой хоронили маленькую девочку в платье голубом», I, 276;
«Обессиленный труп, не спасенный твоею заботой, с остывающим смехом на
синих углах искривившихся губ...» II, 54.
Синий цвет использует Блок и при создании поэтических картин в духе
живописи М. В. Нестерова — голубые кадильницы, оклад синего неба, синий
берег рая, синий ладан, темно-синяя риза: «В синем небе, в темной глуби над
собором — тишина», II, 121;
«В простом окладе синего неба его икона смотрит в окно», II, 84.
Вспомним нестеровского «Пустынника»: и фигура старца, и тропинка, по
которой он идет, и благостная осенняя даль — все как бы подсвечено синим, и
только гроздь красной рябины вносит цветовой диссонанс в освещение картины.
Не таков ли и Блок с его пристрастием к цветовым контрастам: «Когда в
листве сырой и ржавой рябины заалеет гроздь...» 11,263; «Но густых рябин в
проезжих селах красный цвет зареет издали», II, 75.
Пристрастие к синему цвету приводит иногда к гиперболизации его, к
нагнетанию синего в тавтологиях и плеоназмах: «синяя лазурь», «голубая
лазурь», «сине-голубая пропасть», «голубой вечерний зной в голубое голубою
унесет меня волной...» III, 107; «Голубой, голубой небосвод... Голубая
спокойная гладь», I, 532;
Голубые ходят ночи,
Голубой струится дым,
Дышит море голубым,—
Голубые светят очи!
III, 366
Тема «соловьиного сада», раскрывается в «голубом ключе»: синяя мгла,
синий сумрак, синяя муть, голубое окно. Тематическим повтором проходит
синий в стихотворении «Помнишь ли город тревожный...»:
синяя дымка, синяя города мгла. В стихотворении «Облака небывалой
услады...»—лазурная лень, нежно-синие горы, рождество голубого ручья,
голубые земли; в стихотворении «В голубой далекой спаленке...» — штора
синего окна, синий сумрак и покой;
в стихотворении «Я в четырех стенах — убитый» противопоставляется
злу как символ добра и возможного счастья — голубой: наряд голубой,
голубой брат, «она — такой же голубою могла бы стать...», «лазурию твоей
гореть», «голубоватый дух певца».
Стихотворение «Война горит неукротимо» сначала называлось «Голубое»:
Война горит неукротимо,
Но ты задумайся на миг,—
И голубое станет зримо,
И в голубом — Печальный Лик.
Лишь загляни смиренным оком
В непреходящую лазурь,-
Там — в тихом, в голубом, в широком —
Лазурный дым — не рокот бурь. 161 1, 354
Здесь и в других стихотворениях присутствует субстантивированный образ
голубого как самодовлеющей сущности и непреходящей ценности-символа:
Здесь — голубыми мечтами
Светлый возвысился храм.
Все голубое — за Вами
И лучезарное — к Вам.
I, 479
Обрамленность в композиции способствует тематической и художественной
завершенности произведения, его идейной ясности. Обычно это символическая
деталь, на которой держится сюжет. Такую роль играет повторенная в начале и
в конце стихотворения художественная деталь — голубая одежда («Мы шли
заветною тропою»): в начале—голубое покрывало: «Ты в покрывало голубое
закуталась, клонясь ко мне», и в конце: «Как бесконечны были складки твоей
одежды голубой» (I, 490). Вот еще пример такого повтора в стихотворении
«Песельник»: в первой строфе — «Я голосом тот край, где синь туман,
бужу...» и в последней: «Ой, синь туман, ты — мой!» II, 335.
В поэтической фразе синий часто является действенным, активным
началом: «Призывно засинеет мгла», «Звездясь, синеет тонкий лед», II, 49.
Эта действенность наиболее ярко выступает в прозопопеях: «В светлых
струйках весело пляшет синева», II, 147; «И надо мною тихо встала синь
умирающего дня», II, 124; «...откуда в сумрак таинственный смотрит, смотрит
свет голубой?» I, 153. Активизация синего закрепляется в аллитерации и
родственных дифтонгах:
...Где Леонардо сумрак ведал,
Беато снился синий сон!
III, 106
С этой же целью синий выносится в конец стиха, чтобы быть еще раз
закрепленным в рифме, повториться основными звуками — опорными согласными
с, н — в рифмующемся слове: синие—скиния, синей—саней, инее—синей,
пустыни—синий, синий— Магдалина—пустыни. Голубой в рифме выглядит бледнее,
но рифмуется тоже достаточно часто: избой—голубой, нуждой—голубой,
голубою—тяготою, голубой—золотой, тобой—голубой, голубой—мной,
голубом—щитом. Диссонирующей в смысловом отношении представляется рифма
нуждой—голубой и голубою—тяготою.
Для того чтобы зарифмовать «голубой» или «синий», Блок иногда
прибегает к инверсированию:
«Помните лунную ночь голубую», I, 406; «Своей дорогой голубою», I,
345.
Синий встречается как составная часть сложных эпитетов, обозначающих
многочисленные оттенки цвета вплоть до синэстетического звонко-синий:
сине-черная, сине-розовый, иссиня-черный, сине-голубая, мутно-
голубой, нежно-синяя, бледно-синий, жгуче-синий, дымно-синий.
Синий участвует в сравнениях, параллелизмах, афоризмах как опора
образа, его центр тяжести, сообщающий тропу определенную тональность:
«Скажи, что делать мне с тобой — недостижимой и единственной, как
вечер дымно-голубой?» II, 188;
Метафора у Блока — предмет особого обстоятельного разговора. Основой
ее, элементом сближения могут выступать различные предметы и явления
окружающего мира, в том числе и цвета, часто это синий и голубой: «Чтоб
навеки, ни с кем не сравнимой, отлететь в голубые края», II, 159. Наиболее
часто встречаются прозрачные по смыслу метафоры (голубая твердь, синее
раздолье, синяя зыбь, синее око, синий купол, синий полог) или
субстантивация голубого. Синева нередко определяется эпитетами:
сусально-звездная, прозрачная, пустая, лунная. В таких случаях синий
осуществляет ту предметную связь элементов образа, которая обусловливает
его целостное восприятие.
Голубой же в качестве метафорического эпитета чаще всего разрушает
предметную связь своей отстраненностью и необычностью, превращая образ в
символ, который каждый может объяснить для себя по-разному: «Прозрачным
синеньким ледком подернулась ее душа», III, 181; «И в синий воздух, в
дивный край приходит мать за милым сыном», II, 261; «сине-голубая пропасть
времен», III, 560. Возникает сцепление метафор, не поддающихся предметному
объяснению, имеющих целью выразить лишь символически определенный душевный
настрой: «Прохладной влагой синей ночи костер волненья залила», III, 67;
«Нежный друг с голубым туманом, убаюкан качелью снов», I, 322.
Синий цвет в поэтике Блока, несмотря на разнообразие оттенков его
значений, в основном всегда выполняет функцию высокой поэтизации,
романтизации образа; он неизменно сообщает образу неповторимую
взволнованность, страстность, активно участвует в философском и
эстетическом осмыслении поэтом окружающего мира. Стилистическая
многозначность и смысловая емкость синего цвета в поэтической системе А.
Блока позволяет говорить о нем как об одной из характерных особенностей
блоковской поэтики.
В колористике Блока интересна также роль желтого цвета, который по
сравнению с другими цветами-образами довольно редок—1,5% (белый— 28,5%,
черный—14%, красный — 13 %) 7. Встречается желтый цвет не более, чем в 40
стихотворных произведениях, но удельный вес каждого образа с участием
желтого цвета весьма значителен в поэтической структуре художественного
целого.
Чаще всего цвет второстепенен, на первое место выступает настроение;
как правило, это грусть, вызванная увяданием, старением, быстротечностью
жизни:
Помните день безотрадный и серый,
Лист пожелтевший во мраке зачах... I, 406
В стихотворении «Окна на двор» желтый созвучен ощущениям тоски,
бесплодности бытия; это цвет забытых кем-то, ненужных уже утром свечей:
От этого исходного рубежа — настроения печали, тоски — возникает
широкая амплитуда чувств: и в сторону нагнетания уныния вплоть до отчаяния,
безысходности и неизбежности трагического конца, и в сторону
противоположную — к ощущению буйства жизни во всех ее проявлениях, чаще
всего в любви и страсти. Входя в трехчастную синонимическую конструкцию,
создающую одно целостное понятие, желтый цвет связывается с близким Блоку
трагическим решением темы юности:
Воспоминанья величаво,
Как тучи, обняли закат,
Нагромоздили груду башен,
Воздвигли стены, города,
Где небосклон был желт и страшен,
И грозен в юные года.
I, 336
В поэтической трилогии А. Блока желтый цвет впервые встречается в
одном из самых проникновенно-грустных юношеских стихотворений «Медлительной
чредой нисходит день осенний...». Желтый цвет, участвуя в создании фигуры
психологического параллелизма, проходит несколько стадий поэтической
трансформации: эпитет-метафора (термин А. Веселовского), символ (старение,
угасание, одиночество), сравнение. Желтый в этом стихотворении— это
ключевой образ, создающий определенное настроение, связанное с темой осени
как угасания:
Медлительной чредой нисходит день осенний,
Медлительно крутится желтый лист,
И день прозрачно свеж, и воздух дивно чист —
Душа не избежит невидимого тленья.
Так, каждый день стареется она,
И каждый год, как желтый лист кружится,
Все кажется, и помнится, и мнится,
Что осень прошлых лет была не так грустна. I, 34
То же и в таких стихотворениях, как «Видно, дни золотые пришли...»,
«Прошедших дней немеркнущим сияньем...». Осень в этих произведениях
психологически ощущается как такое время года, когда человеком овладевает
сложное чувство свободы, раскованности и пустоты. Желтый цвет особенно
резок в таких картинах, сочетаясь с синим и красным:
Свобода смотрит в синеву.
Окно открыто. Воздух резок.
За жолто-красную листву
Уходит месяца отрезок. I, 228
В создании поэтического образа большую роль играет и звуковая сторона
слова желтый. Желтый звучит резче, чем, например, красный. Это качество еще
более усугубляется высоким вокализмом, особенно в рифме жолты — болты,
которая впервые появляется в стихотворении «Там — в улице стоял какой-то
дом...»
В этом и в других стихотворениях резкость желтого цвета подчеркивается
черным цветом или темным фоном:
Мелькали жолтые огни
И электрические свечи.
И он встречал ее в тени,
А я следил и пел их встречи. I, 221
В сопоставлении желтого и черного (темного) желтый нарушает привычную,
спокойную атмосферу, например, очарование мягких вечерних тонов:
Там, где были тихие, мягкие тени —
Желтые полоски вечерних фонарей... I, 278
Но цветовой контраст с использованием желтого может создаваться и
противопоставлением желтому другого, более яркого цвета, тогда желтый
становится фоном:
Инок шел и нес святые знаки.
На пути, в желтеющих полях,
Разгорелись огненные маки,
Отразились в пасмурных очах. I, 513
Сочетание желтого и черного может передавать ощущение трагичности,
фатальности происходящего:
При жолтом свете веселились,
Всю ночь у стен сжимался круг,
Ряды танцующих двоились,
И мнился неотступный друг. I, 224
В аллегорической картине сочетание желтого и черного передает
гибель дня и рождение ночи:
Вот на тучах пожелтелых
Отблеск матовой свечи.
Пробежали в космах белых
Черной ночи трубачи. II, 60
Желтый встречаем и в гармоническом сочетании с другими цветами:
«Зеленый, желтый, синий, красный — вся ночь в лучах...» III, 287; «Зарево
белое, желтое, красное...» I, 136.
Как основа метафоры, желтый чаще всего трагичен, сопутствует смерти,
душевным страданиям героя:
В голубом морозном своде
Так приплюснут диск больной,
Заплевавший все в природе
Нестерпимой желтизной. III, 48
Желтый как символ смерти, тления становится основой стихотворения «Не
презирайте, бога ради...» и определяет его композиционную завершенность:
Когда-нибудь мои потомки,
Сажая вешние цветы,
Найдут в земле костей обломки
И песен желтые листы. I, 399
В стихотворении «О смерти» (цикл «Вольные мысли») желтый цвет — и
спутник, и вестник смерти, перед лицом которой человек беззащитен и жалок:
«беспомощная желтая нога», «цыплячья желтизна жокея»,
Так близко от меня — лежал жокей,
Весь в желтом, в зеленях весенних злаков,
Упавший навзничь, обратив лицо
В глубокое ласкающее небо. II, 296
Читатель успевает привыкнуть к желтому цвету как неизменному атрибуту
гибели, и когда в стихотворении опять появляется этот цвет в таком,
казалось бы, нейтральном контексте, как «груды желтого песку», то уже не
веришь в эту кажущуюся нейтральность и ждешь беды. И она врывается криком —
«Упал! Упал!».
Аллитерированные ж, з, имеющие источником звуковой комплекс
«желтый—желтизна» и родственные ему, способствуют передаче трагизма или
драматизма ситуации:
В черных сучьях дерев обнаженных
Желтый зимний закат за окном.
(К эшафоту на казнь осужденных
Поведут на закате таком.) III, 31
В стихотворении «Унижение» желтый звучит в той же трагической
тональности в композиционном и тематическом повторе; пронзительные ж, з
дополняются свистящими и шипящими:
В желтом, зимнем огромном закате
Утонула (так пышно!) кровать...
Еще тесно дышать от объятий,
Но ты свищешь опять и опять... III, 32
Призрачный желтый цвет в стихотворении «Испугом схвачена, влекома...»
имплицирует гибельность страстей, страшную пропасть, открывающуюся
приобщившимся черной крови, ужас падения:
...И утра первый луч звенящий
Сквозь желтых штор...
III, 56
Неодолимая сила смыслового, звукового и зрительного подобия
притягивает к желтому слова, родственные по исходной основе. Возле желтого
оказываются пожар, сожжено, варя, жги, обжигаешь. Звуковая гамма желтого
вбирает и массу других слов, преимущественно с негативным (в контексте)
смысловым наполнением, например, в стихотворении «В эти желтые дни меж
домами...»: меж, обжигаешь глазами, пожаром, ложь, зимние, может, безумный,
уничтожит, разящий, взор, кинжал. Ж, з, пронизывая все произведение,
особенно выразительно звучат в концовке: «Твой разящий, твой взор, твой
кинжал!»
Есть у Блока стихотворения, где цвет используется как реалия
(«...телеграфисту с желтым кантом букетики даришь...» II, 116), настолько
однозначная, что становится возможным использование ее в эллиптической
конструкции («желтые и синие» — вагоны первого и второго классов, «зеленые»
— третьего):
Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.
III, 260
Реалистичен желтый цвет и в пейзаже родины, неярком, осеннем,
печальном: «Желтой глины скудные пласты», II, 75; «Над скудной глиной
желтого обрыва в степи грустят стога...» III, 249. Это и осенние «желтые
листочки» (II, 324), и «желтая нива» (I, 108).
Реалистическую достоверность желтого в некоторых стихотворениях
подтверждают иногда и дневниковые записи поэта, его записные книжки, из
которых можно узнать, что послужило источником художественной детали в
произведении, например:
Желтый платок твой разубран цветами —
Сонный то маковый цвет.
Смотришь большими, как небо, глазами
Бедному страннику вслед.
III, 111
Сколько контекстов, столько и оттенков полисемии желтого. Эволюция
образа приводит к возможности восприятия этого цвета как инструмента
социальных характеристик, одного из способов разоблачения мещанства и
создания сатирического портрета. Так, желтый передает неприятие Блоком
западной буржуазной цивилизации, показавшейся ему особенно кощунственной в
древней и прекрасной Флоренции:
Хрипят твои автомобили,
Твои уродливы дома,
Всеевропейской желтой пыли
Ты предала себя сама!
III, 106
Уже говорилось об использовании Блоком красного цвета для разоблачения
пороков капиталистического города, его антигуманистической сути, но и
желтый оказывается возможным в этой функции:
...Также не были чужды ему
Девицы, смотревшие в окна
Сквозь желтые бархатцы...
II, 27
«Желтые бархатцы» — образ того же ряда, что и «красный фонарь»,
«красные герани», «красный комод».
Участвует желтый и в создании сатирического образа,— здесь он — как
штрих безжизненности, обреченности «сытых», никчемности их существования:
К чему-то, вносят, ставят свечи,
На лицах — желтые круги,
Шипят пергаментные речи,
С трудом шевелятся мозги. II, 180
И лишь один раз Блок счел возможным ввести желтый в контекст высокого
поэтического накала. В стихотворении «Лазурью бледный месяц плыл...» звучит
мотив очищения от губительности страстей, приобщения к иным истинам и
ценностям, открывающимся тому, кто прошел крестный путь. Желтый как бы
проходит вместе с героем этот мучительный путь от «желтых бархатцев», от
«комнат бархатного тумана», от «страха тайных падений» к высокому смыслу
бытия:
О, запах пламенный духов!
О, шелестящий миг!
О, речи магов и волхвов!
Пергамент желтых книг!
II, 182
Таким образом, поэтическая полисемия желтого цвета в колористике Блока
— еще одна грань неповторимого мастерства поэта, грань, приоткрывающая
тайну рождения художественного образа, художественного мышления.
Контекстуальная многозначность желтого, как и других цветов в палитре
Блока — красного, синего, голубого и т. д.,— это еще одна ступень к
постижению своеобразия творчества поэта, его самобытности и уникальности.
Желтый в ряду других поэтических образов становится одной из форм
художественного познания и идейно-эстетического отражения действительности.
Символика желтого цвета прошла путь от традиционно устоявшейся в литературе
формы передачи настроений угасания, печали до способа активного
критического вторжения в действительность с позиций гражданственности.
В данной работе мы не ставили своей задачей рассмотрение всего спектра
цветопередачи символики А. Блока, однако, можем с уверенностью сказать, что
помимо рассмотренных наиболее употребляемых цветов, А. Блок использовал и
другие цвета спектра, которые находили применение в различные этапы его
творчества, некоторые из них (например, черный) использовались им в плане
сочетаемости с другими цветами, выражая оттенки настроения, смысла, который
поэт хотел вложить в свои поэтические строки.
ГЛАВА II. Звуковой колорит лирики А. Блока
В сложной художественной структуре блоковских стихотворений звук
выполняет функцию тончайшего инструмента искусства.
Рядом живут в стихотворениях Блока звуки реалистические, земные, и
звуки-символы, звуки — вестники добра или зла, звуки, создающие необходимое
настроение, сообщающие стихотворению композиционную стройность,
организующие сюжет. Создается впечатление, что поэт воспринимает все — все
вещи и явления — через звуки, закрепленные за ними творческим воображением
или действительно слышимые.
Погружаясь в звуки, чутко улавливая все оттенки могучей симфонии
жизни, Блок создал гармоническую картину звучащего мира, где все значимо и
символично, конкретно и в то же время обобщено.
Обостренность звукового восприятия и отражение его в поэзии — одна из
граней таланта поэта, свойство поэтического «видения» звуков.
Идейная и эстетическая позиция Блока-поэта отразилась и в своеобразном
подходе к «звуковому» раскрытию темы, и в фабульных построениях, где звуки
часто играют роль поворотного мига, определяющего развитие сюжета и
композицию произведения, и в характере образа, поэтической лексики,
тропики.
Звуковая основа создает композиционный рисунок многих стихотворений
Блока. Например, цикл стихов «На поле Куликовом» развертывается в звуковом
движении прежде всего. Это и скачущая кобылица, и летящая стрела, и
потрескивание горящего костра, и струящаяся из ран кровь — в первом
стихотворении цикла, а затем все более слышимый, нарастающий крик лебедей:
«За Непрядвой лебеди кричали, и опять, опять они кричат...» Это и звук
человеческого голоса, призыв биться с татарвою: «За святое дело мертвым
лечь!»; это и причитания матери, и звон мечей. Звуки приобретают
символический смысл: «Слышал я твой голос сердцем вещим в криках лебедей»;
«Орлий клекот над татарским станом угрожал бедой». Крики гордых птиц
сопутствуют исторической схватке двух враждующих сторон, в них, несомненно,
заложен широкий ассоциативный смысл, как и в выражении «лебединая песня» —
последний, из глубины души исторгнутый вопль, предчувствие рокового исхода:
«Над вражьим станом, как бывало и плеск и трубы лебедей». Звуковое
восприятие боя переплетается со зрительными образами, создавая целостную
картину ратного подвига:
Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар. III, 252
Можно говорить и о «звуковой композиции» стихотворения «Эхо» с его
необычной, нервной строфикой, как бы передающей рождение звука, его полет,
нарастание, угасание и новый мощный взлет. Звук дает толчок развитию
сюжета, действия («...И вдруг влетели звуки», II, 139); иногда это слабый,
едва различимый звук, как родничок, постепенно перерастающий в могучую
реку: «Ты из шопота слов родилась...» I, 366; «Иду по шуршащей листве», II,
23; «Приближается звук...» III, 265; «Смычок запел...» III, 217.
Некоторые стихотворения так и воспринимаются: прежде всего — через
звуки, организующие сюжет. Так, например, строится стихотворение «Обман»:
В пустом переулке весенние воды
Бегут, бормочут, а девушка хохочет...
Будто издали невнятно доносятся звуки...
Где-то каплет с крыши
... где-то кашель старика...
Шлепают солдатики: раз! два! раз! два!
Хохот. Всплески. Брызги...
II, 146
То же — и в стихотворениях «Натянулись гитарные струны...», «Потеха!
Рокочет труба...». Тут особенно выразительна звуковая основа сюжета:
Потеха! Рокочет труба...
Гадалка, смуглее июльского дня,
Бормочет, монетой звеня,
Слова, слаще звуков Моцарта.
Кругом — возрастающий крик,
Свистки и нечистые речи,
И ярмарки гулу — далече
В полях отвечает зеленый двойник.
В палатке все шепчет и шепчет,
И скоро сливаются звуки...
И вновь завывает труба,
И в памяти пыльной взвиваются речи
Фабульное развитие может быть подчеркнуто устранением звука, внезапно
наступившей тишиной, но это только фон, условие рождения новых звуков,
необходимых для понимания всего произведения:
Смолкали и говор, и шутки,
Входили, главы обнажив.
Был воздух туманный и жуткий,
В углу раздавался призыв...
I, 359
Звук может также обрамлять сюжет, участвовать в композиционных
повторах. В таких стихотворениях, как «Жизнь медленная шла, как старая
гадалка, таинственно шепча забытые слова», «Я вышел в ночь — узнать, понять
далекий шорох, близкий ропот...», «Имя Пушкинского дома в Академии
Наук...», тематические повторы, связанные с символикой звука, раскрывают
авторский замысел:
звук понятный и знакомый, не пустой для сердца звук;
это — звоны ледохода, перекличка парохода с пароходом;
звуков сладость, такой знакомый и родной для сердца звук.
Естественно, что одну из центральных функций в системе звуковых
образов выполняет звук человеческого голоса, его оттенки: шепот, стон,
крик, пение, плач, болтовня, лепет, смех, бред, бормотанье. Блок выделяет в
человеческом голосе дополнительные приметы, необходимые для создания
законченной картины, образа: «Дивный голос твой, низкий и странный...» III,
236; «Не пой ты мне и сладостно, и нежно...» I, 114; «У Вас был голос
серебристо-утомленный. Ваша речь была таинственно-проста», I, 280. Но звук
человеческого голоса может быть и мучительным, и горестным: «Я муки криком
не нарушу. Ты слишком хриплым стоном душу бессмертную томишь во мгле!.. Я
слышу трудный, хриплый голос...» III, 86. Кроме определяющих слов, есть и
другие пути углубления звука-образа, например сравнения: «И вот, как посол
нарастающей бури, пророческий голос ударил в толпу», II, 53; «И страстный
голос был как звуки рога», II, 307. Гораздо реже встречаем значимые фразы,
слова, звучащие сами по себе, без указания, кем они произнесены:
«Раздался голос: «Ессе homo!», III, 30.
Они почти всегда даны как продолжение звукового аккорда, на звуковом
фоне: «Только скажет: «Прощай. Вернись ко мне»,— и опять за травой
колокольчик звенит....» III, 247; «Я шел и слышал быстрый гон коней по
грунту легкому. И быстрый топот копыт. Потом — внезапный крик: «Упал!
Упал!» — кричали на заборе...» II, 295. То же и в финале стихотворения «В
ресторане», где крик «Лови!» вписан в звуковое обрамление: грянули струны,
запели смычки, монисто бренчало, цыганка визжала.
Произнесенной фразе обычно сопутствует уточняющая характеристика
голоса — шепота, пения, бормотания, хрипа: «...он льстиво шепчет: «Вот твой
скит...» III, 35; звук голоса может быть поэтически использован как ядро
антитезы:
Он окрылит и унесет,
И озарит, и отуманит,
И сладко речь его течет,
И каждым звуком сердце ранит.., I, 146
Антитеза возникает также и от противопоставления разных по характеру
голосов: «Весь город полон голосов мужских — крикливых, женских —
струнных!» II, 141. Ситуация контраста, столкновения возникает и тогда,
когда голос явно не гармонирует с окружающими звуками, чужд им, чужд общей
обстановке:
И далекий лепет, бормотанье,
Конницы тяжелой знамена,
И трубы военной завыванье...
III, 556
Антонимическая схватка разных голосов передает сильные чувства, чаще
ненависть:
И если отдаленным эхом
Ко мне дойдет твой вздох «люблю»,
Я громовым холодным смехом
Тебя, как плетью, опалю!
II, 339
Голос звучит по-разному, в зависимости от того, кому он принадлежит:
«...Врывался крик продавщика», II, 312; «И голос женщины влюбленный...»
III, 20; «И девочка поет в лесу», III, 199.
Просто слово, само по себе, обладает огромной силой, на которую
уповает герой, оно несет в себе раскрепощение, освобождение:
Я жду — и трепет объемлет новый,
Все ярче небо, молчанье глуше...
Ночную тайну разрушит слово...
Помилуй, боже, ночные души!
I, 108
Слова — это и люди, их произнесшие («Шипят пергаментные речи», II,
180), и огромный мир страстен и порывов («Чую дыхание страстное, прежние
слышу слова», I, 38).
В создании художественного образа, в построении сюжета, в раскрытии
авторского мироощущения и отношения к объекту большую роль у Блока играет
использование символики звуков и тишины, иногда контрастное сталкивание их.
Блок жил в мире звуков, через них воспринимая жизнь и людей и ими выражая
свое отношение к людям, к действительности, свое личное «я». Блока можно
было бы назвать коллекционером звуков бытия. Одна из современниц Блока,
сотрудница Пушкинского дома в пору его создания, рассказывает о вечере
памяти Блока, на котором Вл. Пяст говорил: «Очень интересно замечание Блока
об аэроплане, которым он, как и все мы в 1911 г., увлекался. Блок сказал,
что аэроплан внес в мир новый звук, не существовавший в нем до XX века,—
звук пропеллера».
Звук как самодовлеющая величина (в сфере поэтической фонетики) бывает
вестником каких-то важных событий, он порождает в лирическом герое
предчувствие чего-то рокового, неизбежного: жизни, смерти, любви. Так,
предвестником великих событий звучит колокольный звон во вступлении к циклу
«Стихов о Прекрасной Даме»: «Все колокольные звоны гудят», I, 74. Обычно
звук колокола предшествует началу действия, является своего рода завязкой в
сюжетных стихотворениях: «В церкви ударил колокол. Распахнулись форточки, и
внизу стал слышен торопливый бег». Но, вступив зачином, звук не умирает, он
создает тревожный звуковой фон, в который вкрапляются и другие звуки:
«Бился колокол. Гудели крики, лай и ржанье», II, 140. Звон колокола
выполняет в стихотворениях Блока очень разнообразные художественные
функции. Так, колокол раздольный — это и глашатай весны, и он же может быть
источником мучительных переживаний:
Бейся, колокол раздольный,
Разглашай весенний звон! II, 145
И на башне колокольной
В гулкий пляс и медный зык
Кажет колокол раздольный
Окровавленный язык. II, 149
Можно встретить и другие оттенки значения этого символа. Колокол
звучит торжествующе:
Звонким колокол ударом
Будит зимний воздух.
Мы работали недаром,
Будет светел отдых. II, 328
Порой его звон пленителен и нежен: «Тонкие поют колокола», III, 118.
Неназванный звук, без указания источника, может явиться причиной сомнений,
колебаний, раздумий героя, быть вестником томительных и неясных ощущений:
Что мне поет?
Что мне звенит?
Иная жизнь?
Глухая смерть? II, 131
Кто кличет?
Кто плачет?
Куды мы идем? II, 103
Или так:
Давно уж не было вестей,
Но город приносил мне звуки,
И каждый день я ждал гостей,
И слушал шорохи и стуки. I, 219
Звук же может быть спутником лирического героя и в самые светлые
минуты его жизни; он же — непременный атрибут гармонически цельной натуры:
Свободен, весел и силен,
В дали любимой
Я слышу непомерный звон
Неуследимый. III, 264
Звук перерастает в таинственную силу, имеющую необъяснимую власть над
героем; тогда уже не важен характер звука, его источник, звук — некое
божество, идол или идеал, которому служит герой, от которого зависит его
жизнь:
На дымно-лиловые горы
Принес я на луч и на звук
Усталые губы и взоры.... III, 26
Лирический герой Блока, при всей его чуткости к условным знакам,
намекам, вместе с тем живет в мире реальных вещей, мире звучащем, среди
живой природы, среди людей, городского шума, песен. Многие звуки в этом
мире неоднократно повторяются, варьируясь, соединяясь в звуковой картине,
вновь расходясь: хруст песка, храп коня, журавлиный крик, шум дождя. Сводя
разнообразные по характеру звуки в полифоническое содружество, Блок создает
выразительную реалистическую картину:
Лишь слышно — ворон глухо
Зовет товарищей своих,
Да кашляет старуха. III, 257
Иль конь заржет — и звоном струн
Ответит телеграфный провод... III, 341
Над озером скрипят уключины,
И раздается женский визг... II, 185
И. Крук, исследуя поэтику Блока, связывает такие звуки, как скрип,
лязг, визг, с темой антимузыкальности мира зла, страшного мира. С этим
нельзя не согласиться, однако символика этих звуков у Блока шире, стилевая
многозначность их более многогранна, нельзя связывать ее только с
«визгливыми и фальшивыми нотами», которые еще прорываются в «мировом
оркестре», как пишет об этом И. Крук, ссылаясь на статью А. Блока
«Интеллигенция и революция». Звуки эти нужны поэту и для создания самых
реальных житейских картин, например:
Полон визга веретен
Двор, открытый лунным блескам... II, 313
Прорываются визги пилы,
И летят золотые опилки. II, 73
Ведь это совсем не то, что «визжит кровавой смерти весть» (II, 316),
так же, как значение глагола скрипеть различно в таких примерах: перья
«торжествующе скрипят» и
Скрипнет снег — сердца займутся —
Снова тихая луна. I, 154
И. Крук совершенно прав, говоря о «музыкальной антитезе как одном из
специфических приемов поэтики Блока, подчиненных задаче художественного
отражения контрастов и конфликтов, трагичности судьбы человека в условиях
«страшного мира».
Однако и понятие музыкальной антитезы, очевидно, тоже гораздо шире и
подчинено не только и не столько одной этой задаче. Блок создает целые
звуковые картины, порою контрадикторные в своей сущности, необходимые для
выражения душевного настроя героя, и для пейзажных зарисовок, и для
характеристики времени и т. д.
У Блока есть, например, свой арсенал звуков войны; здесь отражено все,
что связано с войной, битвами, армией, вплоть до боевых кличей: «Свист
пуль, тоскливый вой ядра», III, 307; «И дальний зов — на бой — на бой —
рази врагов! В лязге сабель, в ржанье коней...» III, 374; «Гром орудий и
топот коней», III, 276; «Идут века, шумит война...» III, 281; «И под черною
тучей веселый горнист заиграл к отправленью сигнал... И военною славой
заплакал рожок... Громыханье колес и охрипший свисток заглушило ура без
конца», III, 275. Очень разнообразны звуки города: «И суета и шум на улице
безмерней», I, 158; «Звенят в пыли велосипеды», III, 106 и т. д.
Звуки участвуют в создании контраста; как правило, это сталкивание
тишины и звуков во имя утверждения звуков как жизни. В этом
противопоставлении может слышаться исступленный страх перед отсутствием
звуков, означающим гибель, конец всему:
Верни мне, жизнь, хоть смех беззубый,
Чтоб в тишине не изнемочь! Ill, 71
Она в конце жизни пришла к нему, эта проклятая тишина,— стихи
оказались пророческими, пришло беззвучие, в котором поэт изнемог. После
мощных и торжествующих звуков, музыки революции, слушать которую он
призывал всем своим существом, наступила для больного, страдающего поэта
глухая пустота. И это был конец, конец творчества и жизни.
Чаще противопоставление звуков и тишины дается в более спокойных
тонах, чтобы передать положительное качество ожидаемого, или угадываемого,
или уже звучащего звука: «...Слуги спят, и ночь глуха. Из страны блаженной,
незнакомой, дальней слышно пенье петуха», III, 80. Но и нейтрально
очерченный звук воспринимается как благо, если он противопоставлен
томительной тишине:
...Глухая ночь мертва.
...Но явственно доносится молва
Далекого, неведомого града.
I, 49
Пришедший на смену тишине, рожденный тишиной звук может вызывать
чувство ужаса:
Вдруг издали донесся в заточенье
Из тишины грядущих полуснов
Неясный звук невнятного моленья,
Неведомый, бескрылый, страшный зов. I, 104
Звук и его антипод — тишина могут создавать и целостную картину, в
которой внешне противопоставленные состояния располагаются в фигуре
параллелизма:
Но труден путь — шумит вода,
Чернеет лес, молчат поля...
В них тишина — предвестье бурь,
И бури — вестницы покоя.
I, 200
Мы не встречаем у Блока антитезы, созданной противопоставлением разных
по характеру звуков (кроме звуков человеческого голоса). Интересен случай
такого противопоставления у Анны Ахматовой, которая делает звуковые образы
средством разоблачения антигуманистической сущности войны:
И в пестрой суете людской
Все изменилось вдруг,
Но это был не городской,
Да и не сельский звук,
На грома дальнего раскат
Он, правда, был похож, как брат,
Но в громе влажность есть
Высоких свежих облаков
И вожделение лугов —
Веселых ливней весть,
А этот был, как пекло сух,
И не хотел смятенный слух
Поверить по тому,
Как расширялся он и рос,
Как равнодушно гибель нес
Ребенку моему.
«Первый дальнобойный в Ленинграде».
Контрастность образов, столь характерная для поэтики Блока это не
прямолинейные сопоставления жизненных явлений, а их постижение с точки
зрения законов некоего высшего порядка, законов гармонии, вступающей в
поединок с дисгармоничностью бытия. Контрасты в поэзии Блока не могут быть
поняты без осмысления специфически блоковской антитезы - музыкальность и
антимузыкальность, что соответствует понятиям: жизнь и безжизненность,
человечность и бесчеловечие, трагедия и фарс. Проблема музыки в творчестве
Блока очень сложна, она требует специального исследования, и тем не менее
надо хотя бы в кратком изложении раскрыть ее суть, ибо без этого нельзя
понять некоторые характерные черты блоковской поэзии.
Необходимо учесть, что речь пойдет о музыке не как о форме искусства,
а как об особой, выражаясь словами Блока, «форме чувствования»,
эмоциональной настроенности поэта. Речь пойдет о музыке в том смысле, как
это выразил Гоголь: «...музыка - страсть и смятение души», «она —
принадлежность нового мира». Можно поэтому утверждать, что тема музыки
пришла к Блоку во многом от Гоголя — писателя, который отличался
чрезвычайно острой реакцией на явления жизни.
Образ музыки, которая тревожит душу и без которой жить нельзя, ибо она
сама—признак жизни, проходит через многие произведения Блока, составляет
своеобразный лейтмотив его образного мышления. Музыка для Блока — это темп
эпохи, ее ритм, марш, устремленность, надежда на будущее. Вот почему так
взволновал его финал «Сорочинской ярмарки». Может быть. Блок явился именно
тем человеком, о котором писал Гоголь, тем зрителем, которым овладело бы
«странное, неизъяснимое чувство... при виде, как от одного удара смычком
музыканта... все обратилось, волею и неволею, к единству и пришло в
согласие... Но еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в
глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло
равнодушием могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком».
Но музыка постепенно стала затихать. «Смычок умирал, слабея и теряя неясные
звуки в пустоте воздуха...»
Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья улетает от нас,
и напрасно одинокий звук думает выразить веселье?» Блок тонко почувствовал
вынужденность веселья, призрачность и непостоянство радости. Поэт, который
пел о нечаянной радости, но жил постоянной тревогой, слышал одинокий звук
скрипки, воспринимавшийся им как тревожный, трагический. Эта нота звучит в
цикле стихов «Арфы и скрипки» (1908—1916), проникнутом мотивами отчаяния,
тоски, утрат, мотивами зловещих, неживых, нелюдских плясок.
Когда-то гордый и надменный,
Теперь с цыганкой я в раю,
И вот—прошу ее смиренно:
«Спляши, цыганка, жизнь мою».
И долго длится пляс ужасный,
И жизнь проходит предо мной
Безумной, сонной и прекрасной
И отвратительной мечтой...
То кружится, закинув руки,
То поползет змеей,— и вдруг
Вся замерла в истоме скуки,
И бубен валится из рук...
III, 194
Заслуживает внимания мысль Л. Гинзбург о том, что такие стихи, восходя
к традиции «романтической цьганщины XIX века», «пронзительной цыганской
лирики Аполлона Григорьева», по существу отличаются от них и мыслятся
«только на фоне этой традиции». Трудно, однако, согласится, что они звучат
«в кругу ее эмоций и представлений». Эмоции тем более представления, в
стихах Блока имеют иную основу. Блоковский мотив безумной пляски ближе к
Гоголю и, добавим, к Достоевскому (пляска пани Катерины в «Страшной мести»
и обезумевшей от нищеты и горя Катерины Ивановны Мармеладовой в
«Преступлении и наказании»). Цыганщина в ее романтической традиции, которой
следовал Ап. Григорьев, — это переключение жизненной темы в сравнительно
узкий мир внутренних страстей, цыганской экзотики. Блок же и цыганщину
вводит в сферу острых социальных проблем
Стихотворение, от которого мы отталкиваемся («Когда-то гордый и
надменный...»), написано в 1910 году, а к 1907 году относится следующая
запись Блока: «Идет цыганка, звенит монистами, смугла и черна, в яркий
солнечный день—пришла красавица ночь. И все встают перед нею, как перед
красотой, и расступаются. Идет сама воля и красота» (IX, 95). Но если
цыганка войдет в кабак, будет низведена до кабацкой певицы и станет
«визжать о любви», то это—опошление красоты, ее поругание, это трагедия.
Ведь не встанут же «перед нею, как перед красотой», «пьяницы с глазами
кроликов». Следовательно, разрабатывая и эту сторону темы цыганщины, Блок
лишает ее пряной экзотичности, включая в общую тему "страшного мира», с
его резкой антимузыкальностью.
В статье «Дитя Гоголя» (1909), приведя слова великого писателя о
музыке. Блок выражает уверенность, что музыка, как и жизнь, вечна: «Если же
и музыка нас покинет, что будет тогда с нашим миром?» — спрашивал
«украинский соловей» Гоголь. Нет, музыка нас не покинет» (V, 379).
Блоковское «если музыка нас покинет» — это опасение утраты чувства времени,
способности слышать его ритм. И потому музыка в его поэзии (в широком
понимании: и образ и тема музыки, и музыка стиха) — это стремление
согласовать свое творчество с жизнью, с ритмом времени. Именно здесь Блок
вступал в спор с символистами, разделявшими тезис Шопенгауэра:
«Музыка—только форма». Так, теоретик и практик русского символизма А. Белый
писал: «Всякая форма искусства имеет исходным пунктом действительность
(понимая под действительностью внутренний мир поэта, а конечным—музыку, как
чистое движение». Блок же, понимая музыку как способность и особенность
поэтического восприятия мира, все увереннее шел к мысли о содержательности
музыки, о содержательности форм искусства. Для него музыка прежде всего
ритм жизни, а затем уж ритм творчества. Перед нами очень своеобразная
трактовка проблемы отношения искусства к действительности, трактовка чисто
поэтическая, эмоциональная: поэзия—это отклик на отклики, если считать, что
ритм жизни, ее музыка является отзвуком самих жизненных явлений; поэзия—это
отражение не голых фактов, а движения жизни, ее ритма. Музыка трактуется
как звуковой эквивалент действительности.
Таким образом, попутно ставится и проблема поэтического вдохновения.
Обладая особым художественным слухом, поэт или только воспринимает свои
субъективные представления о мире — и тогда они воплощаются в мистических
образах, или тонко чувствует ритм, голос жизни — и вследствие этого из-под
пера его выходят произведения, передающие в словах, красках, ритмах
движение самой жизни.
Идея музыки настолько прочно вошла в сознание Блока, что стала одной
из основных черт его эстетических взглядов и психологии творчества на
протяжении всего зрелого периода творческой деятельности, начиная примерно
с 1905 года. В 1919 году поэт записал в дневнике: «Я боюсь каких бы то ни
было проявлений тенденции, искусство для искусства потому что такая
тенденция противоречит самой сущности искусства и потому что, следуя ей, мы
в конце концов потеряем искусство; оно ведь рождается из вечного
взаимодействия двух музык — музыки творческой личности и музыки, которая
звучит в глубине народной души, души массы. Великое искусство рождается
только из соединения этих двух электрических токов» (VII, 364).
Отсутствие музыки означало для Блока отсутствие жизни, омертвелость.
Безумная пляска пани Катерины в «Страшной мести» Гоголя или Катерины
Ивановны Мармеладовой в романе Достоевского «Преступление и наказание» —
антимузыкальна, это жест крайнего отчаяния. Умирающий может плясать лишь в
припадке безумия или полнейшего равнодушия к людям, как пляшут
притворяющиеся живыми мертвецы в «Плясках смерти» Блока. Скрежещущие звуки,
которые проходят через все стихотворение, открывающее этот цикл, — это лязг
костей, это тот диссонанс, который во многих стихах Блока враждует с
музыкой жизни, это отражение антимузыкальности «страшного мира».
Мертвецы еще пытаются жить, даже править жизнью. Это и заклейменные
Гоголем «мертвые души» помещиков и чиновников, это и чиновники
Достоевского типа Голядкина из повести «Двойник».
Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться!
Но надо, надо в общество втираться,
Скрывая для карьеры лязг костей...
У этого мертвеца и повадки самых отвратительных героев
Достоевского. Разве это не господин Голядкин-младший:
Мертвец весь день трудится над докладом.
Присутствие кончается. И вот —
Нашептывает он, виляя задом,
Сенатору скабрезный анекдот...
Мертвецы пытаются лязг костей музыкой заглушить, но это и музыка в
блоковском смысле, и люди и их окружение здесь антимузыкальны. Все в этом
мире омертвелости дисгаргармонично, здесь постоянно висит один звук —
«нездешний, странный звон: То кости лязгают о кости». Заметим попутно, что
чиновник из «Плясок смерти», напоминающий Голядкина-младшего, ничего общего
не имеет с блоковской темой двойничества. Мотив двойничества у Блока идет
от романтической идеи разлада в душе человека, в сложных ассоциациях
отражающего противоречия действительности. Достоевский же в людях типа
Голядкина показывает не столько разлад, сколько подсиживание,
подозрительность к самому себе в стремлении повыгоднее пристроиться в
жизни. Двойник Блока — субъективен. Он порожден фантазией отчаявшегося
человека, который теряет нечто большее, чем место коллежского регистратора:
от него жизнь уходит. Особенно глубоко раскрывается эта тема в
стихотворении «Двойник» (1909), герой которого переживает ужас
надвигающейся старости, требующей подведения итогов жизни:
Вдруг вижу — из ночи туманной,
Шатаясь, подходит ко мне
Стареющий юноша (странно,
Не снился ли мне он во сне?)...
Знаком этот образ печальный,
И где-то я видел его ..
Быть может, себя самого
Я встретил на глади зеркальной? III.13-14
Блок только подошел к трагедии двойничества как борьбы злых и добрых
начал в человеке, которую с такой потрясающей силой раскрыл С. Есенин в
«Черном человеке».
В блоковском «Двойнике» столкновение двух миров в душе человека
показано как смена музыкального (юноша) и антимузыкального («стареющий
юноша»). С воспоминаньем о чистой, высокой любви («непродажные лобзанья»,
«ласки некупленных дев») соотносится музыкальный напев, который в свою
очередь рождает у героя новую столь же юную мечту. И все это вмиг
разрушается с появлением «нахального» двойника, который отнюдь не
торжествует (как Голядкин-младший), но заставляет задуматься над итогами,
напоминая о неблаговидном в жизни героя. Исчезает напев, уходит музыка,
герой — на грани трагедии.
Резкая контрастность, составляющая одну из особенностей поэтики Блока,
идет от жизни. А с точки зрения художественных приемов она соотносится с
диссонансом музыкальным.
Д. Д. Благой в статье «Блок и Ап. Григорьев» указывал на то, что
музыкальные контрасты в поэзии Блока идут от Ап. Григорьева. Таковым он
считает слово «визг», когда речь идет о пении или игре на музыкальных
инструментах. Он ссылается на одно из ранних стихотворений Блока («Табор
шел », 1898; I, 384), в котором есть сочетание слов: «звон, свист, крик».
Это как будто явно перекликается с подобным рядом слов из «Цыганской
венгерки» Григорьева — «визг, свист, крик». Неполное соответствие Д. Благой
объясняет так: "Молодому, еще робкому поэту Блоку чрезвычайно выразительное
название цыганского пения «визгом», вероятно, должно было показаться
чересчур резким, вульгарным, режущим ухо. Отсюда—бессознательная замена
«визга»— «звоном». Однако в своих позднейших стихах Блок это чрезвычайно
меткое определение Григорьева целиком усваивает». Исследователь ссылается
на выражение: «визг цыганского напева» (в стихотворении «Из хрустального
тумана...») и— "монисто бренчало, цыганка плясала / И визжала заре о
любви" («В ресторане»).
Визг в музыке, и не только там где говорится о цыганском пенье. Блок
со временем начинает осмысливать как признак антимузыкальности жизни,
мещанства, банальности. Это глубже, чем в разухабистой венгерке Григорьева,
и —трагичнее. Строки из названных Благим позднейших стихотворений Блока на
первый взгляд, подтверждают его мысль: к цыганской манере пения они имеют
отношение. Но в них есть и обратное. В стихотворении «Из хрустального
тумана...» говорится также о воплях скрипок, что, видимо, должно означать
— с точки зрения антимузыкальности ресторанной обстановки —то же, что и
«визг цыганского напева».
Визг как характеристика антимузыкальности жизни встречается и в тех
стихах Блока, в которых нет речи о цыганщине, но говорится о диссонансах
жизни. Да и не только в стихах, но и в статьях, дневниковых записях,
письмах. Это и в рассмотренных стихотворениях, в которых основной акцент
сделан на антимузыкальности пошлого быта и окружения; это и обращение к
гармонике: «Эй, пой, визжи, жги» — в девятом стихотворении цикла «Заклятие
огнем и мраком», которое проникнуто тревогой за счастье; это и
стихотворение «Голоса скрипок», содержащее очень характерные для Блока
строки:
Зачем же в ясный час торжеств
Ты злишься, мой смычок визгливый,
Врываясь в мировой оркестр
Отдельной песней торопливой
III,192
Мысль о визгливых звуках, врывающихся чужеродной нотой в «мировой
оркестр» и разрушающих гармонию жизни и мечты, варьируется во многих стихах
и высказываниях Блока — вплоть до послеоктябрьского периода.
Визг глубоко осознанно и болезненно воспринимался Блоком как
антиэстетический звук — режущий, рвущий нервы, способный убить чуткую душу
художника и человека. 27 февраля 1907 года он писал по поводу тех
произведений Л. Андреева, которые были рождены крайним отчаянием «Каждая
его фраза — безобразный визг, как от пилы, когда он слабый человек, и
звериный рев, когда он творец и художник. Меня эти визги и вопли проникают
всего, от них я застываю и переселяюсь в них, так что перестаю чувствовать
живую душу и становлюсь жестоким и ненавидящим всех, кто не с нами...
(VIII, 118). Такие звуки в произведениях Андреева воздействовали на Блока
тем острее и болезненнее, что нередко соответствовали настроению поэта, и
это он и сам признает: «потому что в эти мгновенья я с Л. Андреевым -
одно, и оба мы отчаявшиеся и отчаянные». Такое «звуковое» соответствие
(консонантность) внутреннему состоянию души Блок переводил на язык
музыкальных инструментов, и тогда в «мировом оркестре» ему слышалась резкая
нота, звучащая в «тембре» визга. «Расстроенная скрипка всегда нарушает
гармонию целого, — писал он в статье «Памяти В. Ф. Комиссаржевской»; — ее
визгливый вой врывается докучной нотой в стройную музыку мирового
оркестра; она вечно дребезжит, а не поет» (V, 417).
Одним из самых убедительных подтверждений тезиса о том, что «визг»
мыслился Блоком социально, является замечание в статье 1918 года
«Интеллигенция и Революция» о «визгливых и фальшивых нотах», которые еще
прорываются в мировом оркестре: в симфонию Революции резким диссонансом
вторгается этот визгливый голос старого мира.
Столь подробные размышления о мотиве музыки в лирике и теоретических
высказываниях Блока были нам необходимы, чтобы проследить одну из важнейших
особенностей его поэтического мышления, очень ярко проявившуюся в поэтике,
особенно в приеме контраста, при помощи которого Блок стремился передать
свое представление о противоречивости мира, о конфликтах эпохи. На принципе
контраста строятся многие образы, и здесь немалую роль играют звуковые
ассоциации. На резких контрастах — зрительных и звуковых,— построена и
знаменитая «Незнакомка». Диссонансы жизни раскрыты в ней приемами, на
первый взгляд неожиданными для большого поэта. Так, может показаться
странным, что такой блестящий мастер, как Блок, повторяет в стихотворении
одни и те же фразы без видимой 'цели эмоционального воздействия. Но если мы
обратимся к комплексу изобразительных (точнее — выразительных средств, то
увидим, что здесь нет ничего случайного. Всё продумано, все подчинено идее
стихотворения.
Повторения передают удручающее однообразие, удушающую скуку мещанского
существования.
По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.
Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
/ Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.
И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки
Над озером скрипят уключины,
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск
И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирен и оглушен.
II, 185
Все здесь дышит скукой. Тут и «воздух дик и глух», и переулочная пыль,
и скука дач, и бессмысленный диск вместо луны, и люди гуляют среди канав,
за шлагбаумами, которые выступают как какой-то нелепый символ застоя:
преграждая путь людям, они не выпускают их из этого пошлого круга
ресторанных увеселений. Со всем этим связано и неожиданное в лирическом
стихотворении соседство взаимоисключающих слов: «весенний и тлетворный».
Это близко к музыкальной антитезе в «Голосах скрипок»: с стороны —
«буйной музыки волна/Плеснула в море заревое», с другой - «смычок
визгливый».
Здесь даже есть своя гармония, правильнее именуемая какофонией жизни.
Этот — оригинальный и смелый прием: третье «и каждый вечер» переводит стихи
в иную тональность. Это третье — постоянное явление связывается уже не с
однообразием мещанской жизни, а с постоянством мечты поэта о подлинной
красоте, о свободе, о жизни. Меняются краски, образы. Перед нами уже не
«скука загородных дач», а очарованный берег и «очарованная даль», не глаза
кроликов, а «очи синие бездонные Цветут на дальнем берегу».
Исследователями З.Г. Минц, Р. Миллер-Будницкой, Ю. Лотманом, Л.К.
Долгополовым и другими, давно отмечена связь между «Незнакомкой» и «В
ресторане». Эти стихотворения написаны с интервалом в четыре года
(1906—1910), но во втором из них— тот же образ Незнакомки, хоть и не
названной этим именем. Это заметно даже при внешнем сравнении. Вот как
описано явление Незнакомки, а также глубокая взволнованность героя в
первом стихотворении:
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.
Во втором стихотворении появляется нечто новое: герой вступает в
лирическое, только им двоим понятное общение с ней, далекая музыка скрипок
создает атмосферу интимной отрешенности, вдруг разрушаемой визгом
ресторанной певицы. Приведем стихотворение «В ресторане» полностью:
Никогда не забуду (он был, или не был,
Этот вечер): пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на желтой заре — фонари.
Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе черную розу в бокале
Золотого, как небо, аи
Ты взглянула.
Я встретил смущенно и дерзко
Взор надменный и отдал поклон.
Обратясь к кавалеру, намеренно резко
Ты сказала: «И этот влюблен».
И сейчас же в ответ что-то грянули струны,
Исступленно запели смычки..
Но была ты со мной всем презрением юным
Чуть заметным дрожаньем руки.
Ты рванулась движеньем испуганной птицы,
Ты прошла, словно сон мой легка...
И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка.
Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала
И, бросая, кричала «Лови!»
А монисто бренчало, цыганка плясала
И визжала заре о любви
III, 25
Если в «Незнакомке» визгу и всем прочим атрибутам пошлости
противопоставлены зрительные образы очарованного берега, очарованной дали,
синих бездонных очей, то во втором — звуковой, музыкальный контраст: «где-
то пели смычки о любви» — цыганка «визжит о любви». Значительно и то, что,
употребляя обычное, бытовое слово «глаза» там, где речь идет о пьяницах,
Блок обращается к словарю высокой романтической поэзии во второй части
«Незнакомки», наделяя мечту своего героя «очами бездонными». С таким
явлением мы встретимся неоднократно в его лирике.
Баллада «Незнакомка» начинается образом, характерным для «Стихов о
Прекрасной Даме»: «По вечерам...» Вечер - это время, когда мыслилась
встреча с Ней. «Ты ли меня на закатах ждала?» — читаем во вступлении к
циклу, и этот мотив «великой встречи» в «вечереющий сумрак», в момент,
когда все «ближе вечерние тени», «сумерки вешние», — проходит через весь
«роман» о Прекрасной. Даме. Однако для ранней лирики Блока было бы
безусловно невозможным сочетание вечеров с ресторанами, там это было бы
уродливым смешением лексических рядов. В «Незнакомке» это, оказалось
возможным поскольку в поле зрения поэта попадает уродливый быт, сама жизнь
перемешивает прекрасное и безобразное. Таково, например, отождествление,
которое для ранней лирики было бы кощунственным:
Здесь ресторан, как храмы, светел,
И храм открыт, как ресторан
Блоку у на этом этапе более всего соответствовала позиция
романтической иронии, позволяющей сочетать самое несочетаемое: лирические
вечера и рестораны, тлетворный и весенний дух, глаза кроликов и очи синие,
бездонные. Выше уже отмечено, что существенную сторону контрастности как
важнейшей особенности поэтики Блока составляют контрасты музыкальные,
которые художественно реализуются в противопоставлении диссонантньх звуков
(визга, вопля, лязга и т.п.), передающих гримасы жизни, — музыкальности,
певучести как звуковому выражению мечты поэта и углублявшегося видения
лучших сторон действительности. Соответственно создается мелодия стиха,
которая была для Блока средством выражения «музыкальной стихии
действительности», тогда как ритмика—отражением «ритмов страсти бытия».
Обычная проблема музыки (техники) стиха приобретает особый смысл, поскольку
звучание стиха поэт связывает с темой, мотивом и образом музыки, стоящей в
ряду явлений жизни. Правомерно поэтому оркестровку стиха у Блока
рассматривать как творчески реализованное соответствие духу музыки — в его
понимании музыки как звукового эквивалента жизни.
К. Чуковский писал, что музыка стихов Блока, их магическая сила
заключается в гласных, и это, добавим, музыка любви, счастья. Но отражал
Блок и диссонансы жизни. Тогда в гармонию гласных со скрежетом и лязгом
врывались орды согласных. Очень показательно в этом отношении стихотворение
«Черный ворон в сумраке снежном...», в котором чувство любви выражено в
строках, исполненных нежнейшей мелодии:
Снежный ветер, твое дыханье,
Опьяненные губы мои
Валентина, звезда, мечтанье!
Как поют твои соловьи..
Перед нами праздник любви, торжество полных звуков. В последней строке
на 9 согласных — 8 гласных. И какое сочетание! —ою, ои. и опять—через
мягкое в—ои. И внутренняя рифма такого же музыкального наполнения:
твои—соловьи.
И вдруг в это «половодье чувств» вторгается чуждый мотив:
Страшный мир!
Он для сердца тесен!
В нем — твоих поцелуев бред...
III, 163
Сплошные согласные: на 6 гласных в одной строке 14 согласных, стянутых
в диссонантные созвучия: с: стр, шн, ндл, рдц... Не последнюю роль играет и
то, что в первом случае все четыре строки заканчиваются на гласный, в
следующей строфе — на согласный. Интересные звуковые явления наблюдаются и
в "Незнакомке". В первой части этого стихотворения (1—6-я строфы) -
сплошная какофония, звуки самые разнообразные. Однако и здесь чувствуется
некоторая закономерность. В парных строках третьей строфы дается только по
два звука в сильной позиции: а—ы, и—ы. В этих же строках многослоговные
слова («заламывая котелки», «испытанные остряки») утяжеляют чтение, и это
хорошо отражает ту пошлую, тягостную обстановку, которая здесь описана.
Начиная с 7-й строфы(7-9) преобладают звуки а и е, создающие
своеобразную музыку очарования: "И каждый вечер, в час назначенный... Дыша
духами и туманами... И веют древними поверьями..." Затем, по мере того как
образ Незнакомки все отдаляется, - начинается спад, в музыку стиха вступают
новые звуки, снова появляется разнозвучность, создающая не плавную мелодию,
а как бы голоса вразброд: и-а-у, е-и-е-у. И в последней строфе - усыпляющее
у в заключительном стихе и рифме. Снова какофония, снова многозвучность.
Это оправдано сюжетом и композицией баллады: лирический герой, на миг
очарованный чудным видением, возвращается к исходному настроению.
Контрастность образов должна найти соответственно контрастное
художественное оформление Нам представляется не случайной смена звукового
оформления на стыке двух полярных картин в «Незнакомке»:
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!» кричат—
И каждый вечер, в час назначенный...
Инструментовка второй (в этом отрывке) строфы на шипящие, кроме,
отмеченного уже интонирования на е и а, вносит мир новых звуков. Он входит
с шелестом, шорохом, шепотом шелка и невольно все переключается на этот
новый звук.
Не обязательно, разумеется, чтобы эта контрастирующая строфа строилась
именно на шипящих (дальше мы приведем пример подобной оркестровки, но с
противоположным логическим смыслом), но ясно, что в звуковом отношении она
должна быть оформлена по-иному. Если бы предыдущая строфа строилась на
шипящих, то следующая, коль она контрастна ей, требовала бы иного звучания.
Дальше может и должен пойти спад звукового напряжения, но на стыке
смыслового контраста необходим контраст во всем.
В поэзии Блока можно встретиться и со следующим довольно сложным и
очень интересным явлением. Появление Незнакомки (Дамы из Космоса) — и не
только в рассматриваемой балладе — сопровождается, как правило, шипящими,
точнее—шуршащими звуками. Логически это можно объяснено тем, что она — или
в черных шелках («шелками черными шумна»), или со шлейфом. Но создается и
иной, полу-мистический эффект: иллюзия движения — шорох падающей звезды.
Великолепно это передано в той же "Незнакомке»:
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный ..
Первая и третья строки, передающие появление Незнакомки и
аллитерированные на шипящие, размываются строкой с преобладанием мягких
звуков: ль, ль, ни, не. Создается эстетическое чудо ощущения разрыва между
сном и действительностью. Незнакомка, явившаяся в шуме жизни приносит не
только надежду на воплощение мечты, но и тревогу.
Вторжение дисгармоничности действительности разрушало символический
образ, намеченный в духе ранней лирики Блока:
Из хрустального тумана,
Из невиданного сна
Чей-то образ, чей-то странный .. III, 11
Но тут же эта загадочность снимается замечанием, вставленным в
многозначительные скобки:
(В кабинете ресторана
За бутылкою вина)
И сразу — резкий музыкальный контраст:
Визг цыганского напева
Налетел из дальних зал,
Дальних скрипок вопль туманный...
Это низведение символистской странности к странности пьяного видения
подготовлено первыми же словами – «из хрустального тумана»: столкновение
грубо-бытовой реальности с поэтическим образом превращает хрустальный
туман в обыкновенное стекло пивной кружки. Именно такое явление мы и
наблюдаем в стихотворении «Там дамы щеголяют модами..." - одном из
вариантов «Незнакомки». Героиня стихотворения уже не «в туманном движется
окне», а виднеется сквозь стекло пивной кружки:
Там дамы щеголяют модами,
Там всякий лицеист остер
Над скукой дач, над огородами,
Над пылью солнечных озер
Туда манит перстами алыми
И дачников волнует зря
Над запыленными вокзалами
Недостижимая заря
Там, где скучаю так мучительно,
Ко мне приходит иногда
Она — бесстыдно упоительна
И унизительно горда.
За толстыми пивными кружками,
За сном привычной суеты
Сквозит вуаль, покрытый мушками,
Глаза и мелкие черты
Чего же жду я, очарованный
Моей счастливою звездой,
И оглушенный и взволнованный
Вином, зарею и тобой?
Вздыхая древними поверьями,
Шелками черными шумна,
Под шлемом с траурными перьями
И ты вином оглушена?
Средь этой пошлости таинственной,
Скажи, что делать мне с тобой —
Недостижимой и единственной,
Как вечер дымно-голубой?
II, 187-188
Нет девичьего стана—есть только вуаль; за вуалью—не «берег
очарованный» и не «очи синие бездонные», а «глаза и мелкие черты». Она
«бесстыдно упоительна И унизительно горда». Красота опошлена. И все же
героиня стихотворения остается «недостижимой и единственной»—она
противопоставлена «пошлости таинственной», трактуется как ее жертва.
Стихотворение «Там дамы щеголяют модами..» писалось одновременно с
«Незнакомкой», но завершил его Блок через 5 лет.
Символика звуковых образов Блока развивалась под знаком непрестанного
углубления смысловой сферы стихов. Таинственный мир звуков, непостижимых и
роковых, с годами размыкал свой круг, приближаясь к живой жизни и людям,
пока не слился с ними в одном нерасторжимом единстве, став частью
неделимого целого «звук — живая жизнь».
В эволюции символики звука в образной структуре Блока отчетливо ощутимо
движение от частного, конкретного, случайного к обобщенно-типологическому,
всеохватывающему значению звуков, к стихии звукового напора и от нее — к
всеобщей звуковой гармонии.
Заключение.
В стихотворении 1902 г. под заглавием «Religio» Блок писал:
Любил я нежные слова,
Искал таинственных соцветий...
В самом деле, именно цветовая символика и вообще зрительная образность
— основная черта поэтической модели мира, созданной Блоком. Но Блок не
только искал таинственных цветовых соответствий: он прислушивался и к
таинственным звуковым соответствиям окружающего мира. В 1919 г. в
предисловии к поэме «Возмездие» он говорит: «Я привык сопоставлять факты из
всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что
все они вместе создают единый музыкальный напор». Музыкальное ощущение
явлений находит выражение у Блока как посредством повторяющихся образов,
подобных лейтмотивам его лирических циклов и поэм, так и посредством тонкой
проработки звуковой ткани и ритмического разнообразия его стиха. Ритм и
звук в его поэзии очень часто несут совершенно определенную информацию,
улавливаемую читателем синэстетически, на подсознательном уровне.
Поясним понятие синестетизма.
Слово "синестезия" происходит от греческого synaisthesis и означает
смешанное ощущение (в противовес "анестезии" - отсутствию ощущений).
Синестезия - это явление восприятия, когда при раздражении одного органа
чувств наряду со специфическими для него ощущениями возникают и ощущения,
соответствующие другому органу чувств, иными словами, сигналы, исходящие от
различных органов чувств смешиваются, синтезируются. Человек не только
слышит звуки, но и видит их, не только осязает предмет, но и чувствует его
вкус.
Синестезией называют прежде всего межчувственные связи в психике, а
также результаты их проявлений в конкретных областях - поэтические тропы
межчувственного содержания; цветовые и пространственные образы, вызываемые
музыкой; и даже взаимодействия между искусствами (зрительными и слуховыми)
(по Б.М. Галееву).
В чем же суть понятия "межчувственная связь" (синестезия), ее функций
в искусстве? Речь идет о взаимодействиях в полисенсорной системе
чувственного отражения, возникающих по принципу ассоциации. Простейшие
связи, как известно, - "ассоциации по смежности", а наиболее значимые для
искусства это "ассоциации по сходству". Сходство может быть сходством по
форме, структуре, гештальту(форме/виду) слухового и зрительного образов
(например, на этом строится аналогия: мелодия-рисунок). Сходство может быть
и по содержанию, и по эмоциональному воздействию (на этом основаны,
например, синестетические аналогии "тембр-цвет", тональность-колорит").
Последний тип синестезий наиболее характерен искусству, и при признании
связующего посредничества высших, "умных" эмоций, в формировании синестезий
можно усмотреть участие мыслительных операция (пусть они и осуществляются
чаще всего на подсознательном уровне). В связи с этим синестезию следует
отнести к сложным специфическим формам невербального мышления, возникающим
в виде "со-представления", "сочувствования", но отнюдь не "со-ощущения",
как то трактуется согласно этимологии этого слова.
Таким образом, будучи специфической формой взаимодействия в целостной
системе человеческой чувственности, синестезия есть проявление сущностных
сил человека, но отнюдь не некий эпифеномен, и конечно же, не аномалия, а
норма - хотя ввиду возможной "скрытости" своего происхождения в каждом
конкретном случае она и недоступна для поверхностного научного изучения.
Более того, синестезию можно охарактеризовать как концентрированную и
симультанную актуализацию чувственного в широком спектре его проявлений: во-
первых, "умноженная" сенсорность и, во-вторых, эмоции, осуществляющие как
посредник это "умножение".
Мы не ставили целью работы подробно останавливаться на личности Блока,
как типичного синестета, однако, считаем своим долгом, отметить, как
тональность звуковых образов лирики А. Блока отражается на восприятии его
стихотворений. Александр Блок, являясь одним из ярчайших представителей
символизма, обладая синестетически развитой душевной структурой, явился
подлинным певцом красок эпохи, ее «голоса» в мировой истории.
Поэтические образы Блока нельзя рассматривать как простые отражения
реальных объектов или как обычные метафоры и метонимии, просто нагруженные
каким-нибудь абстрактным смыслом. Его образы всегда сохраняют как
конкретный, так и абстрактный смысл, т. е. являются символами. Голубые
видения, розовые горизонты, белые храмы над рекой в его ранних стихах — и
желтый петербургский закат, лиловый сумрак, ночь, улица, фонарь, аптека в
его поздних стихах, — все это одинаково сопротивляется истолкованию на
одном только уровне значения, потому что все это нагружено сложной
полисемичной информацией.
Центральный образ ранней блоковской лирики (1901 —1902), образ
Прекрасной Дамы, порой воплощает реальные черты Любови Дмитриевны
Менделеевой, будущей невесты и жены поэта, но гораздо чаще это возвышенный
символ Вечной Женственности. Само имя «Прекрасная Дама» содержит в своих
ударных слогах два компактных звука «а». Дистинктивный признак компактности
обычно ассоциируется с ощущением простора, полноты, завершенности, величия,
уравновешенности, силы и мощи. Все эти и подобные ощущения можно свести к
понятию устойчивости. Поэтому не приходится удивляться, что в некоторых
стихотворениях о Прекрасной Даме эти ударные «а» господствуют в первых же
строках: «Она молода и прекрасна была'...», «Она росла за дальними
горами...», «Она стройна и высока...», «Ты в поля отошла без возврата...»
Культ Вечной Женственности останется важнейшей темой поэзии Блока.
Когда образ Прекрасной Дамы впоследствии замещается образом Незнакомки,
Падучей Звезды, то все равно ее вид вызывает в поэте то же самое ощущение
величия — заметим девять ударных «а» в следующей строфе:
И медленно пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна, Дыша духами и туманами, Она
садится у окна...
Влекущие розовые и голубые видения, дорога вдаль, алая заря, весь этот
ландшафт ранней поэзии Блока создает впечатление иллюзорного мира «снов и
видений».
В поздней поэзии Блока вся модель его поэтического мира претерпевает
коренные изменения. Русский сельский пейзаж сменяется видением «северной
Венеции», призрачного города Петра Великого, воспетого Пушкиным, Гоголем и
Достоевским. Меняется и цветовая символика блоковской поэзии:
В эти желтые дни меж домами
Мы встречаемся только на миг.
Ты меня обжигаешь глазами
И скрываешься в темный тупик…
(6 октября 1909)
В черных сучьях дерев обнаженных
Желтый зимний закат за окном.
(К эшафоту на казнь осужденных
Поведут на закате таком...)
(6 декабря 1911)
После 1904 г. все цвета у Блока становятся темнее и темнее. Светлые
оттенки синего («голубой» и «лазурный») и красного («розовый») постепенно
исчезают. Если в первом его томе лазурный цвет составлял 9,6% всей цветовой
гаммы (а в «Стихах о Прекрасной Даме» — даже 13,3%), то после 1904 г. доля
его становится ничтожной. Частота упоминаний черного цвета в двух следующих
томах нарастает, но доля белого остается относительно устойчивой, слегка
понижаясь только в третьем томе. Это можно понять: просто символика белого
цвета меняется. Это уже не цвет тех цветов, которые поэт бросает за
церковную ограду, — это цвет смерти («белая смерть», «белый саван») и цвет
метели, снежной бури, в которой кружатся черные маски. Полисемический
символ метели становится центральным в стихах Блока 1907—1908 гг.; он
проходит лейтмотивом через поэму «Возмездие» и достигает окончательной
мотивировки в «Двенадцати».
Вместе с цветовой образностью у позднего Блока изменяется и звуковая
ткань стихотворений. Особенно заметны частые созвучия на диффузные гласные
«у», «ы», «и». Вспомним, что диффузность синэстетически ассоциируется с
неполнотой, внутренней неуравновешенностью, слабостью и даже страданием —
со всеми чувствами, которые можно обозначить общим понятием неустойчивость.
И вот уже ветром разбиты, убиты
Кусты облетелой ракиты.
И прахом дорожным
Угрюмая старость легла на ланитах,
Но в темных орбитах
Взглянули, сверкнули глаза невозможным...
И снится, и снится, и снится: Бывалое солнце!
(3 октября 1907)
Итак, проанализировав работы ведущих ученых-блоковедов, мы в своей
работе пришли к выводу, что тема исследования цветового и музыкального
оформления Александром Блоком своих произведений неисчерпаема, требует
более подробного рассмотрения с членением ее на подтемы для получения более
полного научного результата. Этого можно достигнуть, при сотрудничестве с
психологами, искусствоведами, проводя фоносемантический и фонетический
анализы различных произведений поэта различных периодов творчества. Хочется
надеяться, что данная работа послужит началом к проведению последующих
исследований различных проявлений синестетизма в лирике великого русского
поэта Александра Александровича Блока.
Использованная литература.
1. А. Блок Собрание сочинений. В 8т. — М., Гослитиздат, 1976.
2. Блок А. Избранное. — М., 1989.
3. Блок А. Дитя Гоголя. — М., 1909.
4. Блок А. Интеллигенция и революция. — М., 1918.
5. Блок А. Памяти В.Ф. Комиссаржевской. — М., 1916.
6. Блок Александр. Исследования и материалы / научное издание / отв. ред.
Ю.К. Герасимов. – Л.: Наука, 1991.
7. Авраменко А.П. А. Блок и русские поэты XIX века. – М.: Изд-во МГУ, 1990.
8. Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2-х т. /[Сост., подг.
текста и коммент. В. Орлова]. – М.: Худож. лит., 1980.
9. Альфонсов В. Слова и краски. – М.-Л., 1966.
10. Асафьев Б. Видение мира в духе музыки (поэзия А. Блока). //Советская
музыка — 1970, № 11. С.72-86.
11. Архангельская Ю.В. О формировании символа в стихах А. Блока. // Русская
речь. – 1990. - №6. – С.23-28.
12. Базанов В.Г. Фольклор. Русская поэзия начала XX века. – Л., 1988.
13. Баран Х. Поэтика русской литературы начала XX века. – М.: Прогресс-
Универс, 1993.
14. Барлас В. Глазами поэзии. – М., 1986.
15. Белый А. Арабески. Книга статей. — М., 1996.
16. Беззубов В.И. Александр Блок и Леонид Андреев. — М., 1986.
17. Берберова Н. Александр Блок и его время: Биография. Пер. с фр. — М.:
Изд-во Независимая Газета, 1999.
18. Благой Д.Д. Блок и Ап. Григорьев. — М., 1973.
19. Благой Д.Д. От Кантемира до наших дней. Т.1. – М.: Худож. лит., 1972.
20. Брюсов В. Ремесло поэта. – М., 1981.
21. Ванечкина И.Л., Галеев Б.М. Поэма огня. - Казань: Изд-во КГУ, 1981.
22. Венгров Н. История русской советской литературы. В 4-х т. Т.1. – М.,
1967.
23. Венгров Н. Путь Александра Блока. – М., 1963.
24. Виноградов В.В. Поэтика русской литературы. — М.: Наука, 1976.
25. Галеев Б.М. Содружество чувств и синтез искусств. - М.: Знание, 1982.
26. Галеев Б.М. Человек - искусство - техника (проблема синестезии в
искусстве). - Казань: Изд-во КГУ, 1987.
27. Галеев Б.М. Светомузыка в системе искусств. - Казань: КГК, 1991.
28. Глушкова Т. Музыка России (лирика А. Блока) // Глушкова Т. Традиция –
совесть поэзии. – М., 1987. С.36-39.
29. Громов П.А. А. Блок. Его предшественники и современники. М., 1966.
30. Долгополов Л.К. Александр Блок. Личность и творчество. 2-е изд., испр.
и доп.– Л.: Наука, 1980.
31. Ерёмина Л.И. Старые розы А. Блока // Филологические науки. – 1982. -
№4.— С.24-31.
32. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. — Л., 1977.
33. Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой. — Л., 1973.
34. Завадская Е. Краски и слова. /К 100-летию со дня рождения А. Блока. –
М.: Дет. лит., 1980. - №11. – С.16-21.
35. Захаров Э. Музыкальное у А. Блока: Заметки и наблюдения. Родство
искусства // Искусство в школе. – 1993. - №2. – С.8-13.
36. Крук И.Т. Поэт и действительность. — Киев, 1969. С.42-43.
37. Краснова Л. Поэтика Александра Блока. — Издательство Львовского
университета, 1973.
38. Кузьмина Н.А. Традиционная поэтическая фразеология в лирике Блока //
Русская речь. – 1976. - №4. С.12-19.
39. Куняев С.Ю. Огонь, мерцающий в сосуде. – М.: Современник, 1986.
40. Ланда Е.В. Мелодия книги: А. Блок-редактор. – М.: Книга, 1982.
41. Литературное наследство. Т.92: Александр Блок: Новые материалы и
исследования: В 5кн. / Отв. ред. И.С. Зильберштейн, Л.М. Розенблюм. – М.:
Наука, 1987.
42. Липатов В.С. Краски времени.— М.: Мол. Гвардия, 1983.
43. Лосев А.Ф.«Проблема символа и реалистическое искусство», — М.:
Искусство, 1976.
44. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. – СПб., 1996.
45. Лотман Ю.М., Минц З.Г. «Человек природы» в русской литературе ХХ века и
«цыганская тема» у Блока. // Блоковский сборник. - 1964.
46. Макарова А.А. «Вхожу я в темные храмы» А.А. Блока // Литература в
школе. – 2000. - №8 – С.5-11.
47. Максимов Д.Е. Поэзия и проза Александра Блока. – Л.: Советский
писатель, 1975.
48. Максимов Д.Е. О спиралеобразных формах развития литературы: к вопросу
об эволюции А. Блока. // Культурное наследие Древней Руси. — М.: Наука,
1976.
49. Минц З.Г. Блок и русский символизм. — М.: Наука, 1980.
50. Минц З. Г. Блок и русский символизм. Александр Блок и русские писатели.
— СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
51. Минц З.Г. Поэтика Александра Блока. – СПб.: Искусство-СПБ, 1999.
52. Миллер-Будницкая Р.З. Символика цвета и синэстетизм в поэзии на основе
лирики А. Блока. // Известия Крымского пединститута им. Фрунзе, т. III,
Симферополь, 1930.
53. Образное слово А. Блока / Отв. ред. А.Н. Кожин. – М.: Наука, 1980.
54. Озеров Л. Мастерство и волшебство. — М., 1976.
55. Паперный З.С. Единое слово. – М.: Сов. Писатель, 1983.
56. Рыленков Н. Душа поэзии. — М., 1969.
57. Соколова Н.К. Слово в русской лирике начала XX века — Воронеж:
Издательство ВГУ, 1980.
58. Соколова Н.К. Поэтический строй лирики Блока — Воронеж: Издательство
ВГУ, 1984.
59. Соловьёв Б.И. Поэт и его подвиг. – М.: Советская Россия, 1978.
60. Тарановский К.С. О поэзии и поэтике. — М., 2000.
61. Турков А.М. Открытое время. – М., 1975.
62. Чуковский К.И. Современники. – М., 1967. С.53.
63. Щеглов М. Литературно-критические статьи. – М., 1965.
Министерство образования Российской Федерации
Мичуринский государственный педагогический институт
Кафедра литературы
студента 5 курса
филологического факультета
заочного отделения
Мячина Максима Юрьевича
Цвет и звук в лирике А. Блока
дипломная работа
Руководитель:
ст. преподаватель
Евсюкова Вера Ивановна
Мичуринск 2002
-----------------------
[1] Ахматова А. “Воспоминания об А. Блоке.” М. 1976. (Далее при
цитировании будет указываться номер источника, страницы)